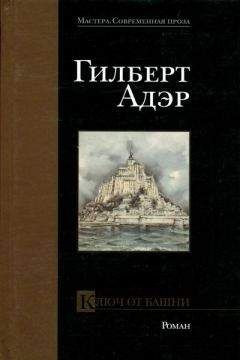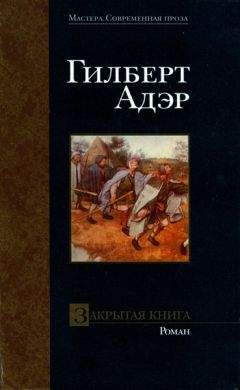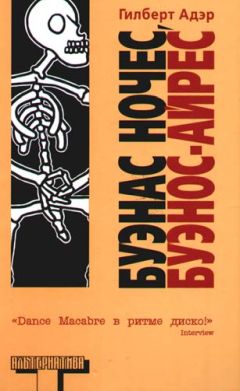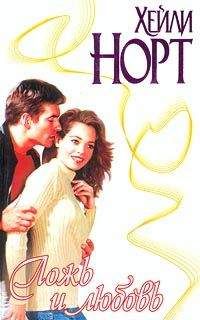Гилберт Адэр - Мечтатели
Изабель торжествующе воскликнула:
— Неправильно!
— Нет, правильно!
— Нет, неправильно!
— В первой сцене Элизабет Тейлор… — Внезапно Teo остановился, осознав свою ошибку. — Боже мой, конечно же! Она подражает Бетт Дейвис, разве нет? В…
— В какой картине, драгоценный мой братец?
— Боже, я должен помнить! Я вообще видел этот фильм?
— Мы смотрели его вместе.
— Разве?
Он задумался.
— Дай подсказку.
— Не дам.
— Ну, будь другом! Скажи хотя бы, кто режиссер.
— Не скажу.
— Скажешь!
— Нет.
— Сколько слов в названии?
— Ни за что!
— Неужели тебе трудно? Голос Teo стал заискивающим.
— S'il te plaît{54}, Иза, s'il te plaît!
— Нет.
— Первая буква первого слова?
— Боже, как он жалок! — хмыкнула Изабель. — Не правда ли, Мэттью? Просто жалок!
— Мэттью! — возопил Teo. — Ты–то наверняка знаешь!
Но Изабель потребовала от Мэттью, чтобы тот молчал. Разве сфинкс подсказывал ответы Эдипу?
Вскоре Teo был вынужден признать свое поражение.
— «По ту сторону леса», — сказала Изабель. — Режиссер — Кинг Видор{55}. С тебя штраф.
— Сколько?
— Нисколько, — ответила она по–прежнему тоном Бетт Дейвис. — На этот раз будешь платить натурой.
— Как это — натурой?
Изабель сдвинула черные очки на кончик носа, бросила на него взгляд поверх оправы и холодно изрекла свой приговор:
— Я хочу, чтобы ты сделал сейчас перед нами то, что ты делал перед ее портретом, не зная, что я за тобой слежу.
На последних словах она сняла очки совсем и указала ими в направлении овального портрета Джин Тьерни.
Просьба звучала загадочно — по меньшей мере, для Мэттью, который тем не менее почувствовал, как в комнате сгустились какие–то новые тени — тени, которых пока что не отбрасывал ни один предмет, — и ответом на нее было столь глубокое и напряженное молчание, что его можно было услышать, несмотря на все посторонние, а вернее сказать, посюсторонние звуки. Напрасно голос Трене пытался побороть его:
Ce soir c'est une chanson d'automne
Devant la maison qui frissonne
Et je pense aux jours lointains.
Que reste–t–il de nos amours?
Que reste–t–il de ces bon jours?
Une photo, vieille photo
De ma jeunesse.
Que reste–t–il des billet–doux,
Des mois d'avril, des rendevouz?
Бросив взгляд на Мэттью, Teo вновь повернулся к сестре, чувствуя в горле тоскливый комок.
— Не имею ни малейшего представления, о чем это ты говоришь.
— А я уверена, что имеешь, лапочка, — ответила Изабель вкрадчиво. — Имеешь, да только не знал, что я это тоже знаю. Как–то ты пришел домой из школы и запер дверь, а затем заскрипели пружины матраса — ради всего святого, ты что, думаешь, я совсем дура, чтобы не догадаться, чем ты там занимался? Кроме того, замочная скважина прямо напротив кровати.
Bonheurs fanés, cheveux au vent,
Baisers volés, rêves mouvants,
Que reste–t–il de tout cela?
Dîtes–le–moi.
Un p'tit village, un vieux clocher…
— Плати штраф, — спокойно повторила Изабель.
— Не буду.
— Не будешь?
— Ты бы не стала.
Изабель ухмыльнулась. Посмотрев на Джин Тьерни, она сказала:
— Да, я бы не стала. Она совсем не в моем вкусе.
— Ну и стерва же ты! Стерва и садистка!
— Не садистка, а последовательница де Сада. Это совсем не одно и то же.
Она зевнула.
— Повторяю свой вопрос, Teo: будешь ты платить штраф или предпочтешь струсить — как ты понимаешь, это будет означать, что нашей игре пришел конец.
Взгляд Teo переходил с Изабель на Мэттью, с Мэттью на овальный портрет и обратно.
— Ладно, Изабель, игра должна продолжаться.
Он сказал это голосом актера, который получает судьбоносную телеграмму в первой сцене какой–нибудь салонной комедии.
Мэттью никогда еще не ненавидел Изабель так сильно, как в эту минуту. Он ненавидел ее за то, что она принудила Teo, его лучшего друга, выполнить унизительное требование, сути которого он еще не знал, но которое уже вызвало в его памяти постыдные воспоминания о жестоких детских играх в школе и о забавах бойскаутов в палаточном лагере, разбитом на лесной лужайке.
Мы беспощаднее всего именно тогда, когда замечаем присущую нам самим низость и отвратительное лицемерие в других, и ужас, который охватил Мэттью, был страхом не только за будущее Teo, но и за свое собственное будущее на этом клочке земли, на этой планете, в этой квартире на втором этаже возле площади Одеон, и он был неотделим от с трудом сдерживаемого оживления.
Teo встал, затем торопливо расстегнул рубашку и скинул ее с плеч. На груди у него волосы почти не росли, если не считать узкой темной полоски, которая ниспадала горным потоком до самого пупка, обтекала его и снова скрывалась, нырнув за брючный ремень. Расстегнув пряжку, Teo позволил своим вельветовым джинсам собраться гармошкой у его ног.
И тут, к изумлению Мэттью, Изабель закрыла глаза ладошками и закричала:
— Нет, нет — только не это!
Неужели она передумала? Неужели она поняла, что Teo перехитрил ее, догадавшись, что она блефует?
Отнюдь нет. Ибо, посмотрев лукаво сквозь пальцы так, словно это были рейки жалюзи, она возмущенно прибавила:
— Сколько раз я говорила тебе, чтобы ты не смел снимать брюки прежде носков! Посмотри на себя, недоумок, у тебя на ногах — синие носки! Из–за этого кажется, что у тебя вместо ступней — протезы. Сними их немедленно!
Наградив сестру убийственным взглядом, Teo снял оскорбившие ее в лучших чувствах носки. Затем, после почти незаметной паузы, он снял трусы, скатав их, как скатывают женщины нейлоновый чулок, вместо того чтобы по–мужски стянуть их. Джинсы упали на пол и остались лежать, сморщившись безжизненно, словно сброшенная при линьке кожа. Он стоял перед ними, сведя колени и слегка подрагивая от холода, словно святой Себастьян, в которого еще не успели вонзиться стрелы.
Теперь, когда Teo вышел из куколки собственной одежды, трансформация завершилась, и она оказалась столь же чудесной и бесподобной, как превращение уличных оборванцев Феса и Танжера{56}, которые на пляже предстают в своем великолепном первозданном виде. Несколько секунд Teo не двигался: он молча разглядывал свой член. Тот был почти твердый, яички же были тугие и тяжелые, как две маленькие тыквы.
Он опустился на колени на постель перед овальным портретом, устремив взгляд к маске очаровательной мумии, представлявшей лицо актрисы, и начал массировать свой член. Рука его двигалась все быстрее и быстрее, инстинктивно находя привычный и бессознательный ритм, который все ускорялся и ускорялся, пока рука не начала двигаться уже независимо от его воли. Скрип пружин, отражаясь от стен комнаты, звучал стуком колес курьерского поезда, мчащегося на всех парах к пункту назначения. Со стороны казалось, что теперь уже полностью набрякший и тугой от крови орган повелевал сжимающей его рукой, а не наоборот, словно хозяин не смог бы оторвать пальцы от него, даже если бы попытался. Так в течение одного страшного мгновения создается впечатление, будто пальцы, которыми человек в рассеянности схватился за горячую ручку ковша, припеклись к ней. И наконец, когда настала кульминация, струя жемчужно–белой спермы, которая (или так только почудилось Мэттью) искрилась на лету, устремилась к овальному портрету, как будто Teo специально туда целился, и какое–то мгновение казалось, что долетит до него, но тут она повисла в воздухе, словно замерзший фонтан, и легко было поверить, что, если щелкнуть по этой ледяной сосульке, она прозвенит высокой чистой нотой.