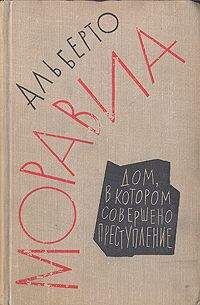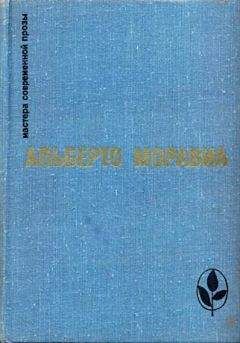Альберто Моравиа - Скука
Чья-то рука ложится на мое плечо — это Балестриери собственной персоной; с покровительственной улыбкой на багровом лице берет он у меня кисть и палитру и встает перед холстом, повернувшись ко мне спиной. Он в рубашке с короткими рукавами и трусах — одеяние, заставляющее меня вспомнить о Пикассо, с которым я вообще обнаруживаю у него неожиданное сходство. Теперь рисует Балестриери, а я гляжу на его затылок, заросший серебряными волосами, и думаю, что вот Балестриери умеет рисовать, а я не умею. Балестриери заканчивает работу. Балестриери отходит, и я стою перед его картиной. Не знаю, хороша она или плоха, но, вне всякого сомнения, она существует: холст уже не пустой и не белый, каким он был, когда закончил рисовать я, — на нем теснятся линии и краски. И неожиданно меня вдруг охватывает ярость: я беру нож, которым обычно пользуюсь при соскабливании краски, и делаю на картине несколько глубоких продольных разрезов. Но о ужас: оказывается, я разрезал не холст, а тело натурщицы. И я вижу, как из этих длинных вертикальных разрезов — от груди до ног — начинает сочиться кровь. Кровь красная, ее много, она образует бесчисленные ручейки, которые, сливаясь, образуют на теле девушки, улыбающейся как ни в чем не бывало сплошную кровавую сетку, а я все режу и режу — упорно, методично, до тех пор, пока не пробуждаюсь от собственного мучительного нечленораздельного крика.
День был пасмурный, комната погружена в тусклый свет сумерек. Я вскочил с дивана и, словно бы следуя какому-то внезапному озарению, бросился к двери, открыл ее и вышел в коридор. Там было пусто, все три двери заперты, но, приглядевшись повнимательнее, я заметил, что та, которая ведет в студию Балестриери, чуть-чуть приоткрыта. Не размышляя, продолжая действовать словно бы по наитию, я подошел к ней, убедился, что она и в самом деле не заперта, толкнул и вошел.
Я никогда раньше не бывал в студии старого художника и, таким образом, мог объяснить свой приход самому себе простым любопытством. Шторы на окнах были спущены, и в комнате было почти темно; лампа под красным абажуром на резной позолоченной деревянной ножке, наводившая на мысль о церковной утвари, горела на столе, покрытом скатертью из пурпурного Дамаска. Разглядывая студию Балестриери в кровавом свете этой лампы, я убедился в том, что она совсем не похожа на мою. Она была больше, и в ней была еще внутренняя лестница, которая вела на антресоли, где виднелись две маленькие двери. Кроме того, если моя студия, кое-как обставленная, всегда в беспорядке, выглядела как типичный приют художника, то обставленная «под старину» студия Балестриери, как я сразу же с бессознательной неприязнью отметил, была похожа на мещанскую гостиную, какие были в моде лет сорок — пятьдесят назад; никто бы не догадался, что здесь обитает художник, если бы не пресловутые «ню», густо, одна к другой развешанные постенам от пола до потолка, да монументальный мольберт, стоящий в хорошо освещенном месте, у самого окна; на мольберте был холст с незаконченной картиной.
Меня особенно поразила мрачность этой комнаты: мебель, либо старинная, либо подделанная под старину, была вся выдержана в стиле Возрождения; стены под картинами обиты пурпурным Дамаском; на полу грудой навалены персидские ковры с густым и темным рисунком. Я закрыл за собой дверь, огляделся и, вдыхая стоявший в комнате специфический запах — домашний и в то же время отдающий тлением, — медленно подошел к холсту. Неоконченная картина, несомненно, была та самая, над которой работал Балестриери в день смерти, запечатлевая на ней свою юную любовницу; признаюсь, мне было любопытно увидеть, как она была сложена. Однако, очутившись перед холстом, я почувствовал разочарование и недоверие. Набросок углем, сделанный Балестриери, плохо соотносился с образом той хрупкой, с детским личиком девушки, которая так часто мне улыбалась. Это было типичное его «ню» с преувеличенными формами и в нарочитой позе: девушка присела, сцепив на затылке руки, так что на первом плане оказались бедра и груди, то есть те части женского тела, к которым Балестриери был, по-видимому, особенно неравнодушен. Меня поразила ширина бедер и тяжелые груди — ничего подобного я вроде бы не замечал в его натурщице. Правда, тонкая талия и хрупкие руки и плечи вполне могли принадлежать ей. Характерная деталь: Балестриери не позаботился хотя бы набросать лицо, так что какая-либо идентификация, во всяком случае, для меня, была просто невозможна.
Я долго смотрел на холст и думал о том, что Балестриери и в самом деле был очень плохим художником, даже если мерить его по меркам старой натуралистической школы, к которой он, по-видимому, принадлежал; затем я отошел от мольберта и стал одну за другой рассматривать картины на стенах. Как я уже говорил, все это были обнаженные женские тела, запечатленные по большей части в нарочитых, неестественных позах, и, глядя на них, я подумал, что Балестриери хотя и был плохим художником, отличался необыкновенной старательностью и был кропотлив до педантизма: было видно, что он не полагался на вдохновение, а работал как старые мастера — кроя картину несколькими слоями лака, по многу раз возвращаясь к одним и тем же деталям, пока не убеждался, что сделал все возможное. Результатом же, увы, был специфический фотографический натурализм, тот самый «вылизанный» стиль, который царит обычно на выставках коммерческих галерей. Но с другой стороны, нельзя было не признать, что в своем роде это было совершенство, то омерзительное совершенство, которое бывает свойственно порнографическим изображениям. Иными словами, мир Балестриери был очень конкретным и последовательным: ничто не нарушало цельности этого мира, ничто чуждое к нему не примешивалось, и так ли уж важно, что в нем был оттенок маниакальности? Главное, что до самого конца Балестриери чувствовал себя в этом мире прекрасно и никогда даже не пытался выйти за его пределы. Может быть, он и был сумасшедшим, но в таком случае его безумие состояло в том, что он верил в прочность своих связей с реальностью, то есть в собственное здоровье, о чем, между прочим, свидетельствовали и его картины, в то время как я был убежден, что истинно здоровый человек не может поверить в возможность такой связи, и я действительно в нее не верил, но именно потому и чувствовал себя не здоровым, а больным.
Размышляя обо всем этом, я обошел комнату, разглядывая картины, и ни на одной из них не нашел девушки с детским лицом. И подумал, что именно так и должно было быть: Балестриери никогда не писал свою юную любовницу, ему достаточно было ее любить, то есть он вел себя прямо противоположно тому, что можно было бы предположить, учитывая его преклонный возраст. Я уже собрался уходить, когда какой-то шорох наверху заставил меня поднять глаза. На антресолях я увидел девушку Балестриери: не спеша, опустив голову и, видимо, не замечая моего присутствия, она спускалась по лестнице, одной рукой держась за перила, а другой прижимая к груди какой-то большой сверток.