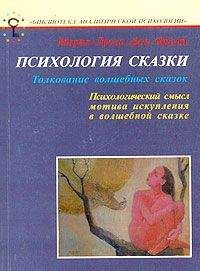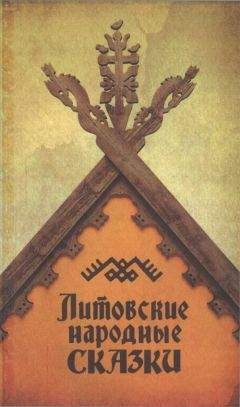Олег Павлов - В безбожных переулках
Он так равнодушно относился к себе, что походил характером на собаку. Подчинялся одинаково и детской ласке, и женскому приказу хозяйки, будто служил верой и правдой, а своей воли при этом не давал знать. Почти без сопротивления покорялся обстоятельствам. Увлекался тем, во что звали. Радовался, если радостно было кругом. В драки влезал без раздумья, по какому-то инстинкту, но не самозащиты, а справедливости. Почти всегда и часто бывал только бит, украшался синяками да ссадинами. Но оставался доверчив так, что обманывать его, а после глядеть с восторгом, как он легко всему поверил, да и верил до тех пор, пока не сжалишься над ним, было еще одной моей любимой игрой. Бывая обманутым мной и даже порой, наверное, жестоко, как это было, когда я подламывал хлипкую ножку под его креслицем, на которое он садился и тут же опрокидывался, а после пугался, что сам же его сломал, отец смеялся, узнавая от меня правду, и так восхищался то выдумкой моей, то ловкостью, то хитростью, что это его восхищение, как награда, лишь поощряло меня к подобным вещам. Он мог обозлиться лишь тогда, когда не помнил себя от чувства обреченности. В его характере было, однако, сильное самолюбие, стремление к тому, чтобы восхищать собой. Ради этого он мог рискнуть даже собственной жизнью - в остальном бессмысленно, без какой бы то ни было пользы для себя и других; а если не рискнуть - так соврать, чтобы вызвать все же это восхищение, удивление собой. Сидя на месте, вообще без движения, или в четырех стенах, делался скучным и равнодушным, выбывал из жизни, будто такой, без приключений и праздников, она становилась ненужной. Мог своровать, что плохо лежало, считая это не грехом, а какой-то доблестью: из уголка Дурова он украл циркового петуха и принес его в дом; там, где работал, тащил в дом инструменты и детали, просто из любопытства или восхищения этими вещами, но без всякой практической пользы. Как-то по-собачьи обожал он кости, млел от них, и если была в супе или борще цельная кость - обрякшая мясом, жиром, жилами и при том мозговая, с нежнейшим жирнейшим червячком внутри, - то глаза его от восхищением даже выпучивались, он принимался шумно ластиться к хозяйке, хоть того и не требовалось, чтобы получить кость, и упивался до последней возможности, пока она не оказывалась до блеска обглоданной.
На Днепре отец бросил меня, не умеющего плавать, далеко в воду. Я бултыхался и тонул, но вопил от радости, зная ли свыше, веря ли всей душой, что в последний миг он меня спасет. Когда мать спала со мной, а не в одной кровати с ним, только просыпаясь и зная, что он дома, а не на работе, я бросался в его комнату, кидался к нему на постель, будил его, ведь теперь он был мой и я мог делать с ним все, что захочу. Мы дурачились и боролись, пока нас не разнимала мама. Но все это было, когда я еще ходил на самой-самой кромке жизни, а со временем, да, в общем, и не со временем, а через несколько тупых мерных толчков времени, все это исчезло.
Я заразился ненавистью к нему, как болезнью. Как и всякая болезнь, моя ненависть овладевала душой и сознанием постепенно, только чувствуя пустое место. Она приходила через воздух, которым дышал. Она еще боролась с чем-то во мне и еще не была ненавистью, а, быть может, лишь ознобом - то жаром, то холодом, от которого было плохо. Она делала мне плохо, но прибирала как своего, чтобы жить во мне, быть, существовать. Она питалась слабостью, а немощным делал меня отец, отнимая как ударом то, что мог отнять только он.
Когда отец принес в дом щенка и подарил его мне, то сам же обучил, как нужно ласкать: чесать его за ухом. По неразумности, но желая доставить щенку удовольствие, я измучивал его этой чесоткой. Был отец трезв или пьян, но получилось так, что он увидел это, подскочил ко мне и, приговаривая, чтоб я знал, как больно было щенку, держал силой и рывками, как сдирают кожу, делал то же самое.
После развода отца с матерью я не видел его и ничего не знал о нем. Но в жизни моей, как бы на его месте, воцарилась бабушка: она и напоминала о нем, не позволяя забывать.
Как только она к зиме вернулась из плавания, я будто обрел в Правде свой дом. Она приезжала, брала на выходные после школы, и даже мама отчего-то подчинилась ей и сама привезла меня в Правду на каникулы зимой. Сильное тайное желание увидеть отца было во мне, а скрывал я это желание потому, что ощущал в нем что-то стыдное, ведь сам отец почему-то не искал со мной встречи. Я слышал от бабки, что устроился он на работу и много трудится, будто бы потому так все и происходит. Очень много слышал про алименты, которые он платит матери, и эти разговоры были бабке особенно важны, потому что прятался за ними настоящий обман. Отец не ездил и к бабушке, то есть не давал знать о своем существовании именно так, будто нисколько не заботился о том, что происходит с ней. Это я смутно чувствовал по ее волнению, ожиданию, даже смятению. Но и она не ожидала, что он появится на моих глазах с какой-то женщиной в спутницах, чтобы только взять денег. Я увидел точно умершего, лежащего в гробу: c бесчувственным, опустошенным выражением лица, в ухоженной одежде, в которой, чудилось, всегда и помнил его.
Он посмотрел сквозь меня, хоть я стоял в сторонке и ждал, что заговорим. Бабка удерживала его и, наверное, поэтому не давала денег сразу, как он хотел. Это злило его. Он стал порыкивать и, казалось, угрожать, нападать. Она дала ему испуганно бумажку, однако ему было мало. "Трешку жмешь? Для сына?.." Но от нежелания дать ему три рубля бабка сделалась вдруг такой яростной, сильной, что он стал пятиться и под конец, казалось, сбежал.
Бабушка Нина с тех пор не скрывала, да и не могла скрыть, настоящего облика отца и часто плакала от этого, как от слабости, немощи, пробуждая жалость к себе, но не жалея меня до тех пор, пока я сам не делался таким же жалким, слушаясь ее внушений. Она внушала плохое против матери, исподволь приучая думать, как сироту, что она-то, бабушка Нина, и есть мне замена вместо "падшей женщины", и заставляла выбирать между собой да отцом, который мог ее не уважать и терзать на моих глазах, а я бросался на ее защиту, чего она и хотела, устрашая его сознательно тем, что я вижу и слышу происходящее между ними и будто бы отрекаюсь от него. Он уже считал пред собой виноватыми всех, а себя - безвинным, как жертву всех окружающих сил, доходя до бреда и до мирового этих сил против себя сговора. Мама внушала плохое против бабушки, из чего многое поражало и не выходило из памяти, как, например, рассказы о том, что когда я родился и нечего было есть - так как отец не работал, а у нее на руках был младенец, - бабушка именно в то время запирала на замок холодильник. Об отце она никогда не говорила плохо, считая, что жизнь его была изуродована собственной матерью, ее жадностью и жестокостью. Сестра внушала, какой она была сиротой в детстве, и я слушал как тайну, что она рассказывала про моего отца и мать. Все помнили лишь плохое и вспоминали всякий раз одно и то же, твердя будто молитву, разве что каждый свою. И я твердил то же самое, верил каждому из них, пока не оказывался сломлен в этой своей вере жалостью. Мне чудилось после таких разговоров, что уже меня жалеют и понимают и что роднит нас тайна, она же правда, которую я узнал. Правда каждого никак не связывалась у меня в сознании в целое. Казалось, должен быть обязательно виновный и неправый - это убеждение единственно и становилось во мне сильным.
Сестра вышла замуж, обручилась с Мешковым; помню ресторанный зал человек на триста, где были мама, я да ее отец, которого увидел в первый раз, а остальные гости - ее новых родственников; на следующий день молодоженов проводили в свадебное путешествие, это было на Рижском вокзале, и с того времени я почти не видел сестры, разве урывками; в квартире от нее остался лишь проигрыватель с пластинками.
Когда не стало сестры - а это было именно такое ощущение, что она ушла из нашей жизни, - тогда он и пришел... Я сижу на кухне, на кухонном столе тарелка, а в ней кругляшок вареной колбасы - для меня. Отец глядит на него как-то голодно. Пьян. Смотрит и говорит: "А ты все жрешь..." Равнодушно, с ухмылкой отворачивается и лыбится слюняво в сторону матери: "Аллочка... "
Последний раз он приходил в нашу квартиру весной после развода, и было все иначе. Помня, каким видел отца зимой у бабушки, я прятался от его туманных взглядов, хоть речь шла обо мне - кажется, единственный раз отец заявил на меня свои права.
Еще не прощая маме того, что она освободилась от него как от обузы, почти бросила его одного, он довольно официально, будто участковый милиционер, заявился на квартиру к бывшей жене: в лучшем пиджаке, где на лацкане красовалась серебряная подлодочка - знак военно-морской подводника, несбывшейся его мечты. Обращаясь к бывшей жене, он никак не хотел или не мог произнести ее имени. Говорил с чувством собственного достоинства на "вы", а раз назвал даже "гражданкой". Притом он волновался, чувствуя или понимая, что требовать ничего не в силах и каждую минуту она запросто может выставить его за порог. Ему же хотелось доказать, что он не пропащий, от которого она, думая так, вероломно сбежала. Показать своей бывшей жене, что он за человек, будто наказать, он вознамерился как настоящий мужчина: приехал не к ней, коварной пустяшной женщине, а к сыну. Кто-то внушил ему - не иначе бабушка Нина, что он имеет право брать своего ребенка, видеться с ним или устроить, к примеру, летний отдых. Ему стоило только доехать летом до Киева, куда меня отправляла мать на лето, а там уж и подхватил бы нас человек, от которого зависел весь его план: человек, мне тогда еще совершенно неведомый, но до того уважаемый матерью, что она дала свое согласие и месяц того лета провел я с отцом.