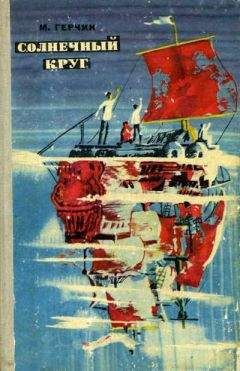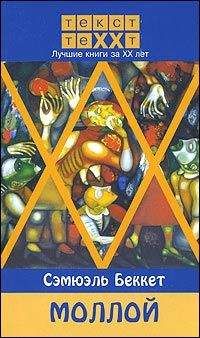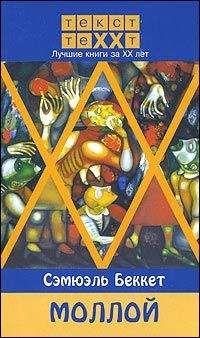Владимир Ионов - Гончарный круг
Денис оставил камеру, вошел в дом.
— Стоп! — остановил он шофера. — Зачем?
— А иначе не выйдет. Можно только сверху, но это слишком верхний свет будет. Мы его ничем не отобьем. Я уж тут крутил — никаких вариантов больше нет.
Денис присел на лавку, огляделся. Да, иначе ничего не сделаешь. Как-то он не учел этого раньше. Можно было вчера еще разобрать, чтобы привык человек.
— Вот какая беда-то, дядя Миша. Снимаем в цвете, свету нужно много, — заговорил он. — Вы уж не волнуйтесь, пожалуйста. Мы все потом поставим на место.
— Да чего, дураха, толковать? Не велико дело-то. И совсем убрать — дак прятать нам за ее нечего. Ломай, Валя! — Михаил Лукич махнул рукой, и от этого ли резкого жеста, а. может, скрежета-то он не любит — сердце защемило маленько.
Матрена Ивановна тоже вдруг скривилась лицом и не дала Виктору выносить доски — понесла сама.
— Чего хоть тама деется-то у тебя, Матрена-матушка, пошто ломают-то все? — спросили у нее люди. Она не ответила, не нашлась, что сказать и ушла с крыльца за другими досками.
Когда вынесли разобранную переборку, Михаил Лукич не узнал своей избы. Большая стала и нескладная. Все четыре угла — гостиный, столовый, спальный и стряпной — стали одним широким местом, а печь, стол, кровать, комод теперь выпирали наружу и стояли угрюмо, как выставленные напоказ сироты. Зато три этих фонаря, прикрытые спереди марлей, стояли среди избы нездешние, как апостолы. Один из них уже светился сквозь марлю голубоватым разящим светом, и вся передняя стена в избе поголубела от него и, кажется, даже выгнулась вперед. Чужая стала изба, и Михаилу Лукичу сделалось боязно, что и все остальное теперь изменится, примет новый цвет, и он потеряется в нем без привычки и только смажет глину.
Старика нужно было приучить к свету, и Денис потихоньку попросил Валентина, чтобы тот включал «юпитеры» постепенно и не давал пока полного накала.
Они занимались каждый своим делом — оператор и ассистент готовили камеру, Михаил Лукич снаряжал рабочее место. Поставил круг в уголок, плеснул в горшок воды, чтобы поотмякла полизеня, положил под руку подсечку и деревянное чертильце. Дела эти — давно обязательные для него — раньше были незаметными, а теперь он их тянул, чтобы как-то собраться с духом к главному делу, и каждое из них тоже стало вдруг важным. Вот и струна перекрутилась у подсечки. Натянешь — узел даст, чертить им будет, а то и оборвется. Старик аккуратно расправил струну, свернул ее кольцом… Теперь все на месте, тянуть больше нечего. Осталось взять в руки глину и — с богом! — хоть она какая-то чужая под апостольским светом, будто из Кондратьевой ямы. И тяжелая. Велик ли вот комок в руке, а тянет.
Старик коротко выдохнул, будто крякнул перед трудным делом, которое надо решить одним махом, и смял в пальцах комок, стал тискать его, растягивать в стороны, «стирать» на доске. Мял быстро, торопливо, как в далекие годы, когда надо было наготовить глины отцу и успеть отгуляться с девками. И все время ждал, когда застрекочет аппарат с синеватыми, как коровий глаз объективами. И опять боялся этого стрекота и начинал потихоньку дрожать нутряным ознобом, переглатывать пустым горлом. Он не сразу услышал, что мотор камеры уже работает, тащит скрытую от глаз ленту, на которой остаются его руки, по-стариковски слабые, по-мужицки семижильные и по-бабьи спорые. А когда услышал мотор, в горле у него все выдуло, как в продувной трубе, высохло — не переглотнуть больше. А снаружи шея, наоборот, взмокла, пот защипался в тонких морщинах, глина стала вязнуть в руках, тяжелеть… Эдак-то если палить будут светом, глина высохнет, не разомнешь будет. Хоть ее-то прикрыть какой рогожкой.
Несколькими быстрыми ударами он смял глину в квадратный брусок, бросил его на доску и нырнул под «Юпитер».
— Что такое? — перед Михаилом Лукичом встал Валентин. — Куда? — спросил он, не пропуская старика дальше.
— Дак глина-то сохнет под светом-то. Покрути-ко ее будет такую-то! — заговорил Михаил Лукич сухим горлом, нетерпеливо поглядывая в избу, в спальный ее угол, где нет такого света, где сумрачно и, поди-ко, прохладно.
— Быстро воды! — распорядился Денис.
Валентин дернулся выполнять приказ, но Михаил Лукич удержал его. Ему так захотелось вырваться из светового пекла, что он захитрил, как у Макара в сарае:
— Тебе не суметь, дураха! Рогожку надо обратом сбрызнуть, али сывороткой, — придумал он.
— Отдать свет! — махнул рукой Денис.
— Я мигом. Мигом я, — откликнулся старик уже с порога.
Он выскочил в сени, зачерпнул из глиняной опарницы ковш воды, тугими глотками выпил ее, попавшимся под руку рукавом фуфайки вытер шею, покрутился в поисках рогожки, вспомнил про тряпицу, об которую Матрена вытирает ноги, выходя со двора на чистую половину дома. Тряпица уж пересохла на лестнице. Сунул ее в кадушку с водой, прополоскал и выжал. Двором от нее потягивает, зато нашел быстро — посидеть хоть немного в прохладе осталось времени. Благодать какая на дворе-то! Прохладно, сеном свежим потягивает с сенника, клевером свежим из кормушки. Так бы и полежал теперь на сеннике, посумерничал бы, да ведь крутить сейчас надо будет — самое главное! А пойдет ли круг-от сегодня? Глина-то больно тяжелая чего-то. Господи, хоть бы заладилось! Так бы и помолился сейчас, как бы хоть одну молитву помнил. Уж не господь ли силу-то отнял за неверие? Леший бы его драл, коли так! И Макара нету чего-то. Все бы, глядишь, рядом посидел, дак полегче бы было.
Михаил Лукич подошел к воротам, приоткрыл створку: чего хоть там на улице-то делается? Перед воротами пусто было — одни куры. Но, видно, есть тут кто-то — ступают куры с задержкой и воротят головы на сторону. Он выглянул побольше, и увидел деда Александра. Этот все дремлет. «До ожогу», как Макар говорит. Не запалил бы чего цигаркой-то… А кроме деда, никого не видать. Слышно, что за палисадом много народу, но там Василий стоит у автобуса, туда не сунешься — этот мигом загонит в избу.
Увидел, что куры косят на поленницу. Есть там кто-то, вихры чьи-то дергаются. Видать, ребятня обошла Василия тылом.
— Эй, Ванятка! Ты тута? — тихо спросил Михаил Лукич.
Точно! Из-за поленницы высунулся напаренный солнцем Ванятка.
— Поди сюды! Живо, ну…
— Дядя Василий дралу даст, — ответил парнишка и тут же спросил: — Кино-то, что ли, уже сделали?
— Маленько, дураха, поделали. На двор меня отпустили. Иди, говорю, сюды!
Кто-то стал выпихивать Ванятку из-за поленницы, но он уперся:
— Не пойду. Мне уже въехало.
— Тихо вы тама! — шепотом пристрожил Михаил Лукич. — Макара, Ванятка, не видал?
— Видал. Елку он запрягал. Может, в село уехал?
— Пошто?
— Дак почем я знаю?
Кто-то свалил с поленницы плаху. Всполошно хлопнули крыльями куры, ребятня брызнула из-за поленницы в картофельник. Василий круто обернулся, пошел вглубь двора. Ванятку и всю ребячью ватагу будто ветром сдуло.
— А, это вы, Михаил Лукич? — увидел Василий хозяина лома. — Я тут вот вроде сторожа сегодня. Не останови народ, так весь дом и облепят. — Он присел на лавку, как-то неопределенно вздохнул. — Будто первый раз видят киносъемки… Кстати, как там?
— Да не выходит у меня ни лешего. Как запалят они фонари, так глина вся и спекется.
— Так чего же они палят-то так?
— Да ведь, поди, не зря же.
— Ну хоть что-нибудь делали?
— Кажись, делали… Да делать-то им нечего со мной. Чего уж теперь делать?..
— И так, в этом дырявом фартуке, и снимали?
— Да фартук-от причем? В фартуке ли, Вася, дело?
— Да… — Василий опять вздохнул. Он огляделся, встал с лавки. — Может, конечно, и не в фартуке… Так вы чего, закончили?
— А я и не знаю. За тряпкой я на двор пошел. — Михаил Лукич вдруг всполошился: ведь ждут там!
Денис сидел на подоконнике, прижавшись спиной к скобленой укосине. Вид у него был уже усталый какой-то. Услышав, что вошел Михаил Лукич, встрепенулся.
— Ну, как? Поработаем или отдохнем? Дядя Миша, вы смотрите, как вам лучше. Мы ведь в общем-то не торопимся. Можем и до другого раза отложить. — Сказав это, Денис сразу же почувствовал, что ставит мастера перед трудным выбором и тут же поправился: — А вообще-то, чего мы киснуть будем? Давайте работать. Ребята, свет! Вы — на место. И поехали! — Он легко соскочил с подоконника, встал за камеру и подмигнул из-за нее Михаилу Лукичу.
Старик отдавил пальцем кусок глины, а остальной ком накрыл мокрой тряпкой.
Мять глину — дело пустяковое. Вот крутить когда начнет — тут да! Только бы заладилось, да побыстрей бы кончить все! Вот как бы убрать отсюда фонари эти да трещетку Денисову, самому бы по себе сесть, как вчера, как раньше… И вертеть опять же чего? Кринку в тонкий черепок сперва вытянуть, чтобы уж и дело с концом? А ну, как оборвется? Тогда и другое ничего не свертится. С плошки начать? Не хитро больно дело-то. Эко, скажут, тонкость какая — блюдо свертел!