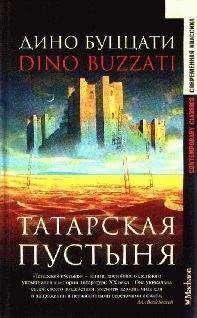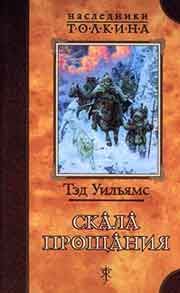Дмитрий Бакин - Страна происхождения
Однако пятый визит старшего брата положил начало серьезным раздумьям, а затем наступило нечто вроде прозрения, которое, впрочем, ни к чему не при вело, просто не могло привести ни к чему действенному, по крайней мере, в данный момент, кроме того, что Баскаков, сидя на крыльце в полночь, понял вдруг, что его старшему брату не нужны деньги по долговым распискам — то есть он бы, конечно, не отказался их получить, если бы придумал, как содрать, но главное для него был даром построенный дом, записанный на чужое имя, Баскаков же был использован, как подсадная утка, фиктивный хозяин, лишить которого собственности можно было в любое время, потому что он оказался в положении человека, юридически уязвимого, точнее, беспомощного, припертого к стенке долговыми расписками. Старшему брату нужен был дом — иных побуждений выдвигать заведомо неисполнимые требования Баскаков не видел; что же касается прибавления двадцати процентов сверх государственной стоимости строительного материала — это был, по всей вероятности, отвлекающий ход, при помощи которого старший брат хотел уверить Баскакова в своей личной финансовой заинтересованности, не столь очевидной без этих двадцати процентов прибыли, потому что ни кто не мог знать точно, платил ли он собственные деньги за строительный материал или приобретал его путем всевозможных махинаций, таких как обмен кирпича на шифер, доски, цемент, но это было уже не столь важно, как неважны были те цели и подцели, тайные надежды и темные намерения, которыми руководствовался старший брат, ибо для Баскакова все кончалось там, где кончались интересы Баскакова.
* * *Это произошло летом, примерно через восемь месяцев после того, как ее матери вернули из поссовета паспорт с местной печатью и примерно через месяц после того, как ее, не получившую паспорт вообще, впервые увидели в обществе этого здоровенного парня, который жил в соседнем поселке и до недавнего времени работал грузчиком на маргариновом заводе, а уволившись, сразу устроился грузчиком на кирпичный завод. Причем встречи с ним, видно, были ей не особенно приятны, а может, она просто стеснялась своей левой щеки с отметкой огня, так или иначе, не она искала этих встреч, а встречаясь с ним по дороге домой из школы или же из кино, куда изредка ходила в компании своих сверстниц, которые при его появлении тут же оставляли их вдвоем, она, судя по бледному лицу — если женским лицам вообще можно верить — не испытывала ничего, кроме затаенной, тихой муки. Он же спокойно шел с ней рядом, высокий, широкоплечий, с ног до головы закованный в непробиваемую броню могучих мышц, и не будь его рубашка распахнута на волосатой груди, можно было подумать, что если он и не закован под одеждой в латы, то уж бронежилет наверняка на нем; однако это было лишь первое впечатление, исчезавшее при ближайшем рассмотрении, потому что вблизи было видно, как плавно и мягко перекатывается кожа на огромных мышцах, плавно и мягко, как вода в горных реках перекатывается через гладкие, круглые камни, и двигался он так же плавно и мягко, но в каждом его движении сквозила неукротимость воды, кажущееся спокойствие потока, бесследно исчезавшее, стоило лишь руслу пойти под уклон. Ему было двадцать пять лет, но на вид можно было дать все тридцать; он никогда не доходил до ее дома, прощаясь метров за двести от него — как видно, он понял, что быстрее добьется своего, не противореча ее желаниям. Но как-то раз, когда молва о них уже вскипала горькой слюной на губах благонравных посельчан, он проводил ее до самой калитки и случилось то, чего она все это время опасалась, из дома вышел Баскаков и не спеша пошел прямо на них. Он открыл калитку и, не глядя на парня, со скупым, холодным любопытством обратил взгляд на дочь и молча, холодно разглядывал ее в течение долгой минуты, намереваясь, видно, решить, что обледенеет сначала — женщина или время, а потом спокойно сказал — ступай домой. Оставшись наедине с парнем, которому едва доставал до плеча и упершись взглядом ему в грудь, он вдруг поднял руку и темным, прямым, твердым пальцем ткнул парню в живот, продавив могучие мышцы так же легко, как висящую марлю, и без всякого выражения сказал — чтоб больше я тебя с ней не видел — выждал немного, не убирая палец, а потом сказал — все.
Долгое время в поселке не могли уяснить, как этот парень, после предупреждения Баскакова, решился пойти на то, что сделал впоследствии с его дочерью в сосновом бору — он жил с ними на одной земле питавшей их мускулы одинаковой силой и одинаковой усталостью, дышал с ними одним воздухом, вдыхая решимость и выдыхая нерешительность, пил ту же воду с привкусом травы, с привкусом корней и, однако же, решился посягнуть силой на существо, чья неприкосновенность была нерушимо обеспечена кровью Баскакова, его священным трудом шестнадцатилетней давности, наконец, призрачной печатью его собственности. Это произошло в полдень безоблачного, знойного августовского воскресенья, когда температура воздуха превзошла критическую температуру человеческого тела, когда жители поселка, чьи мозги закипали в черепной коробке, точно в герметически закупоренной кастрюле, ожидали непостижимого события, вроде того оранжевого миража, что посетил их небо пять лет назад в изнуряющей жаре такого же августовского дня, который затем во всех подробностях был описан в районных газетах края. И вот после того, как четырнадцатилетний пастух прогнал через поселок стадо одуревших от зноя коров, отказавшихся пастись, пиная их под ребра твердыми, круглыми пятками, они увидели, как дочь Баскакова со своим широкоплечим ухажером, презревшим запрет ее отца, скрылись в сосновом бору для серьезного разговора. А час спустя она уже бежала к поселку со стороны соснового бора, едва удерживаясь на негнущихся, перепачканных ногах, движимая, казалось, инерцией первого и единственного толчка, порыва, в разорванном грязном платье со следами раздавленных черных ягод на спине, с кровоточащей царапиной на лбу и растрепанными волосами, в которых запутались куски коры, сосновые иглы и мох. В то время, как его изнасилованная дочь влетела в дом с твердым намерением никогда больше из него не выходить и рухнула там в потемках отчаянья, не пытаясь скрыть от матери того, что произошло, Баскаков, одетый по-осеннему, невзирая на чудовищную жару, не способную, однако, растопить внутренние залежи льда в его душе, надвинув на брови широкополую войлочную шляпу, устанавливал самодельные винтири в конце огорода, среди высоких болотных камышей и осоки; опускал винтири в глубокие узкие канавы, наполовину заполненные зеленой, гнилой водой, вырытые для того, чтобы болото не разливалось и не размывало насаждения на крайних грядках огородов в период весенних дождей, и мрачно сжав губы, думал о старшем брате. Нагибаясь над канавами в шорохе сухого камыша, чувствуя резкий запах тины и рыбы, он думал — что задумал этот сукин сын — и думал — понятно, что он что-то задумал раз не появляется полтора месяца со своими погаными расписками. Он постоянно думал о нем с тех пор, как сидя на крыльце в полночь, после пятого визита старшего брата, понял, что тому нужен дом; и в раздумьях своих, в непримиримом одиноком ожесточении, пытался про считать все варианты, все возможные пути, которые использует старший брат, чтобы лишить его дома, построенного на фундаменте пота и упорства, ни минуты не сомневаясь, что предстоит яростная борьба, тайная, скрытая от всех борьба двух единокровных существ, рожденных одной женщиной, давно умершей, но предсказавшей эту борьбу — нечеловеческую борьбу, а скорее борьбу взаимоисключающих явлений — от одного мужчины, давно умершего, слышавшего ее предсказание, но не сумевшего разглядеть в детских играх сыновей проблеск едва уловимого, упорного сопротивления взаимному родству, которое они, став взрослыми людьми, не сумели скрыть даже при свойственной обоим замкнутости, неразговорчивости, и вполне возможно, объединились бы первый и последний раз, чтобы свернуть шею тому, кто открыл, огласил, представил на обозрение их кровное родство в этом поселке, куда они приехали каждый сам по себе в разное время.
Баскаков отсутствовал еще около часа, в течение которого его жена успела сорвать с дочери всю одежду и, смочив керосином, сжечь в печи, кроме того, она волоком вытащила ее из дома, помыла холодной водой, одела в чистое, повязав на голову косынку, скрывшую царапину на лбу и уложила в постель. Так что, когда Баскаков вошел в дом, он был встречен тяжелой, неподвижной тишиной, в которой, казалось, каждый звук принял бы видимые очертания, а крик вспыхнул бы огнем. Жене он ничего не сказал, а она молча накрыла на стол, и потом уже, когда он повесил на вешалку шляпу, вымыл руки и сел за стол, она, наливая в жестяную кружку парное молоко, сказала ему — наша девочка заболела; он только посмотрел на нее, приподняв одну бровь, продолжая молча жевать; она сказала — это все жара проклятая — и отвернувшись к плите, сказала — завтра все пройдет — и сказала — жара проклятая; он опять ничего не сказал, ел молча больше не отрывая глаз от тарелки, погруженный в мысли о старшем брате и она больше ничего не сказала. Потом он встал, отодвинув тарелку, и прошел в другую комнату, где под легким покрывалом лежала их дочь; на секунду за державшись в дверях, но увидев, что она не спит, подошел к кровати и, глядя на белое, изможденное лицо, протянул темную руку, положил ладонь ей на лоб и едва шевельнув губами сказал — температуры нет — и спросил — что с тобой?; а она сказала — ничего — и, совладав со спазмами в горле, сказала — ничего — и сказала голова болит; он убрал руку и сказал — спи; тогда она покорно, устало закрыла глаза, но лишь он вышел, ее глаза открылись.