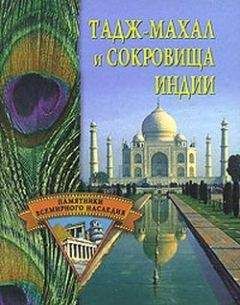Юрий Миролюбов - Прабкино учение
— Да не тебе в них заглядывать! Ну и что тебе?
— Вот, Миколушка, ты до всех добрый. Стару Филипповку пожалел. Спасибо тебе! Ну, а как матери-то на такое дело соглашаться? Вон, Катерина была, это тебе дев-как так девка! И лицом румяна, и в плечах крепка, и вилы возьмет в руки, так работа горит. А Улита — ни то, ни се. Хлипка, только что глаза пялит зеленые. А так, что с нее в хозяйстве?
— Не тебе жить с ней, а Нов-Году!
Сани идут шажком. Коська мотает головой, звенит уздечкой, упорно шагает, бороздя свежий снежок.
— А вот и сенцом запахло! — сказал улыбаясь Свят-Микола. — Чуешь, стара?
— Да уж, чую. Да что в сене том?
Стар-Год с трудом влез в сани, сел в ногах Филипповки.
— А здоровы бывайте!.. И ты, мати, вижу, здесь?
— И я… А чего ж, коли дети родные выгнали?
— А ты бы смягчила сердце твое! — уговаривал Микола. — И чего тебе все суровиться?
— И правда, чего тебе? — сказал Стар-Год. — Наше дело стариковское. Учить молодежь не приходится, — он вздохнул, зевнул, перекрестился и добавил. — А за Сильвестровкой-то уже и к Господу идти! Являться надо. Грехи свои вспоминать, каяться.
— Ну-ну, пока там Сильвестровка, — заметил Микола, — а каяться-то при жизни надо, а не после.
— Оно-то верно. Грехи наши тяжкие! — вздохнул крестясь Стар-Год. — Спаси, Христос, и помилуй!..
— А вона и Сильвестровка! — указал кнутом, съезжая с горки, Микола. — Куды вас доставить?
— Да уж вези, Микола-Свет наш, к церкви. Там и увидим.
Подвез их Свят-Микола к церкви Варвары Великомученицы, попрощался и поехал шажком дальше.
А Декабрь-Батюшка, Филипповка со Стар-Годом в церкву вошли, в притворе стали, свечки купили, пошли вечерню слушать в Канун Рождеству Христову.
И в елках, соснах, в лесу соседнем, Мороз Красный Нос с Братьями, Морозом Синим Носом да Белым Носом похаживать стали, снег притаптывать, пристуживать. А с полуночи и Стриб повеял. Холодно стало!
Зажглась Звезда Вечерняя, и в соломе-сене, возле Коров, Овнов, Бог наш — Христосик народился.
Свят-Вечер вошел на стогна,[81] благословил ядущих, пошел на Христа-Младенца посмотреть, а в морозном небе Ангелы запели: «Слава в Вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!»
И Стриб подул-подул, стал снежить, с Бореем метелицу завели. Потеплело.
Христос народился! Запахло Кутьей с Медом и Взваром над миром!
КУБАНСКОЕ РОЖДЕСТВО
В России снег, мороз, зима, а на Кубани, особенно на Линии, солнышко припекает днем, снег, если и падает, к полудню тает, а у брата, на галерее, драцены, волкома-рии[82] в цвету. Ходить на галерее приятно, кругом деревца в кадках, померанцы,[83] пахнущие сладким ароматом юга, олеандры,[84] запах которых немного горчит и драцены,[85] так пахнущие медом, что деваться некуда. Среди этих цветов красные, белые, розовые герани, как пятна крови и снега. Цветы полны чистоты, любви и чувства. В полдень в раскрытое окно прилетают пчелы, здесь они спят мало. Правда, берут немного, но все-таки есть и зимний взяток. На улице мягкие дороги, с липнущей сероватой грязью. По ним редко-редко проедет воз с дровами из лесу, или же проскачет в седле, честь честью в черкеске, подросток, уже сидящий на коне как казак. Иной раз виден старик Богомаз или Беседин, оба видные собой хозяева. Они идут по тропинке, беседуя о своих казачьих делах, изредка берутся за плетень, обходя лужу. Бороды их, в седине и черни, развевает легкий горный ветерок. Бешметы[86] подтянуты очкуром[87] в серебряных позументах,[88] черкесской чеканки. Вот они остановились, козыряют друг другу, подают руки, расходятся. За ними идет Маша Седелкина, казачка, высоко подобрав подол юбки, в сапогах. Она лукаво щурится в мою сторону, бросает взгляд на горы, где весь синий с зеленью и голубизной встает Эльбрус. На нем вечные снега, сияющие в ярком весеннем солнце.
— Петрович! — кличет она. — А горы-то сегодня какие! — и поворачивается к югу, смотрит.
Сбоку она особенно хороша, и Маша знает, что ни у кого нет такой темнорусой косы, лба, прекрасных выточенных плеч. Я тоже смотрю, но не на горы, а на нее. Быстро поворачивается она ко мне розовым лицом, сверкает голубыми глазами, улыбкой. Боже, как хороша она!
— А вы на уток не пойдете? Этой ночью наши пойдут. Хотите с нами?
— Конечно! — соглашаюсь я. — Я охоту люблю.
— Послезавтра Рождество! — говорит она еще. — Заходите к нам в гости.
— Спасибо. Зайду, да только и вы уж к нам загляните.
— Оно бы можно, да меня Танька живьем съест! — смеется она (Маша — соседка, через плетень живет). — Думаете не знаю? А это с кем вы в саду, за яблонями, вчерась целовались?
Дрянь девчонка! Я, правда, поцеловал Таню, и то всего один раз. Лицо мое горит.
— Вот видите, и секрета удержать не можете! Какой же вы кавалер?
— Маша, я тебя сейчас за уши выдеру! — с угрозой выкрикиваю я и пускаюсь во двор, с намерением ее поймать. Куда там! Маша стрелой улетает на площадь, машет оттуда рукой и звонко кричит:
— Да вы не бойтесь! Никому-у-у не скажу!
Действительно дрянь! На всю станицу орет.
Ну ладно же, пойдешь назад, я тебя поймаю! И сейчас же тащу пенек к зарослям лавровых кустов, сажусь на него и терпеливо жду. Вот Маша возвращается из лавки, где покупала чай-сахар. Я тут как тут, точно из ящика выскочил.
— Будешь дразниться? — говорю, крутя ей руки назад. — Вот я тебе сейчас лещей надаю!..
— Петрович! — молит она. — Пустите! Ей-Богу, больше не буду!
Но когда пускаю, она бежит стрелой по тропинке и, вне досягаемости, становится, и так дразняще кричит:
— Всю ее исцеловал! Я же видела! И знаю, кого!
И хохочет-хохочет, заливается серебряными колокольчиками, машет прелестной рукой.
— Петрович! Вы же не казак! Вам никак нельзя наших девчат целовать!
Срам и стыд. Не знаю, как и перенести такую обиду, особенно чувствительную в семнадцать лет.
— Ничего, Петрович! — покровительственно говорит совсем рядом Машин отец, неизвестно откуда взявшийся. — Девки на то и сделаны, чтобы их целовать! — и смеется. — А моя стрекоза вас подсмотрела и знаете, почему? Потому, что и самой бы хотелось, чтоб такой молодец поцеловал ее! Ведь бабы что, у баб я вам скажу — полвека прожил — не душа, а так, видимость одна! И моя тоже, хоть и дочка, а языкастая. Пойдет молоть, по всей станице узнают. Ну, да не бойтесь, Петрович, я ее одерну.
— Да нет же, это мы шутили, — заступаюсь я. — Молодежь, что же ей делать?
— Так-то оно так, да глупая, может ославить девчонку на весь свет. Я ей беспременно скажу.
Он вытаскивает большой кисет табаку, сворачивает папиросу, а кисет передает мне. Я тоже люблю кубанский табак. Великолепная самокрошка[89] ложится на тонкой папиросной бумаге, зажжешь, аромат такой, точно заморской травы зажгли.
— Спасибо. Ну а как там дела? — спрашиваю, передавая табак.
— Слава Богу! А на уток с нами пойдете? Мы целой компанией, значит, так пожалте сегодня вечерком, как солнышко зайдет, к нам. На засяд идем.
— Непременно приду. На засяде я еще ни разу не бывал.
— Пустое дело. Сидите в куреньке, до ночи, а потом потихоньку в поле, а она утка, дура, сидит как раз на снежку, и видно — где черная, там и утка. Бей в самую середину без промаха!
Козырнув, казак уходит. Я переживаю тысячу волнений, и от того что он видел, как я за его дочкой гонялся и ничего не сказал, и что Маша хороша, и что на ночную охоту пойдем.
Вечером, раньше чем успел поужинать, уже слышу голос из-за плетня, зовет Маша:
— Петрович-и-ич! На засяд идите!..
Сейчас же, бросив слово брату, хватаюсь за ружье, уже стоящее в углу, набрасываю на плечи бурку, надеваю шапку — и был таков, перемахиваю через плетень. Маша ждет. Она улыбается, здороваясь, потом говорит:
— Вы уж меня, дурочку, простите! Не подумала я. Тятя меня во-о-о как пробрал.
— Ну, что же вы, Машенька! Тут и прощать нечего. Давно простил.
— Правда? — сверкает она синими глазами. — А то я истинно запечалилась.
— Конечно. Кто же на тебя, красавицу такую, сердиться будет?
— Ну-ну. Уж и красавица.
— А как же? Какие у тебя руки, ножки, лоб, косы!
— Ха-ха-ха!.. Совсем как в поговорке: «Хороша Маша, да не ваша!» Ха-ха-ха! — заключила она, идя рядом. — Там, за углом. Да подождите же! Куда вы? Вот, — охватила она мою шею горячими упругими руками и влепила мне поцелуй. — Будете знать, как за нашими девушками ухаживать!
Нужно сказать, что я совсем обалдел от этого. Правда, Таню я однажды поцеловал, да и то Маша видела, а Маша — а Маша была совсем иной. Таню я знал уже года три, мы, вместе с ней играя, не раз дрались, а Маша. Гм! Маша была казачка строгая. Года на два старше меня. В такие годы — девятнадцать лет — дело почти невероятное. Она мне казалась настоящей женщиной, а не девчонкой, как Таня. И как же она на меня подействовала! Всю ночь потом я провел с сильным сердцебиением. Точно, правда как-то райского блаженства коснулся. И ее горячие руки, если бы не были они так горячи! Ведь это совсем страшно вышло. Мне лишь мельком мерещилась женская ласка, иной раз я любил помечтать и вдруг вздрагивал, казалось мне, вижу обнаженную руку, а тут — просто живая русалка! Так и смотрит, как русалка. И казалось, что никогда никакой Тани не было. Тем более Вари! В Маше была крепкая казачья горная красота. От нее пахло тем самым медом, что от драцен. Голова моя шла кругом, когда думал, как и что все случилось.