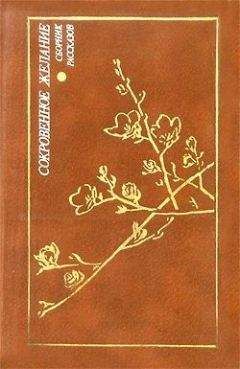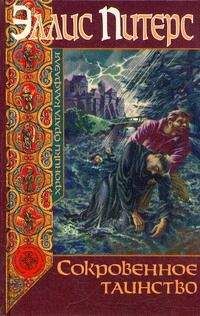Ёсио Мори - Сокровенное желание
Но на этот раз я проиграл. Проверочного лучика не было видно.
* * *— Я знаю, ты, как инженер, работающий на стапеле, с полной ответственностью выполняешь свои обязанности… Остается только думать, что ошибка вкралась во все расчеты днища. Кривой киль, кривое дно… А когда над этим кривым днищем возводят остальной корпус, ясно, что все восемьдесят восемь тысяч тонн получатся с кривизной… Но сейчас речь не об этом. Главное, если все вы будете помалкивать, заказчик ничего не заметит — сейчас это важнее всего! И вообще — что такое центровая линия судна? Ведь она все время смещается. Строить на ней расчеты никак нельзя… Даже если производить замер каждый раз, как судно ставят в док, сплошь и рядом обнаруживается отклонение в двенадцать-тринадцать миллиметров… Можно десять раз замерять одно и то же судно, и всякий раз при этом центровая линия будет смещаться. Даже если не производить на судне никаких работ, просто поставить в док, все равно, глядишь — основная линия незаметно сместилась… В конечном итоге, по-моему, у кораблей вообще не существует центровой линии. Это, если хотите, своего рода чисто умозрительная идея… Но нынешнее отклонение в пятьдесят миллиметров — это уж чересчур… Впрочем, при водоизмещении в восемьдесят восемь тысяч тонн… При таких размерах подобное отклонение, возможно, даже закономерно…
Я молчал.
— С технической точки зрения на это, пожалуй, можно взглянуть сквозь пальцы. Но если об этом услышит начальник инженерных работ, так не смолчит, и даже я и то могу потерять место… Однако главное — что будет, если об этом узнает заказчик? Вот что сейчас важнее всего. Ты ведь знаешь заказчика… Сущий дьявол! Устроит грандиозный скандал, откажется принять судно и уж определенно ничего не заплатит, в этом можно не сомневаться!
Теперь я полностью протрезвился. Истинную подоплеку этого ужина с тушеной уткой тоже отлично уразумел. Но с той минуты, как я увидел счастливое, улыбающееся лицо Такагавы, моя злость улетучилась. Облокотившись о подоконник, я смотрел на плавающий вдали кривой танкер, мучительно сознавая свое бессилие.
Пришедшему с опозданием Окано подали угощение.
— Это что же, подкуп? — без обиняков спросил Окано. — Категорически возражаю!
— Я понимаю тебя, но, видишь ли, жизнь — это такая штука… — Директор запнулся.
— Жизнь?… То есть как это понимать? Что бы там ни было, я против! Я вовсе не хочу, чтобы про меня говорили, будто я замешан в этой истории, причем в деле, к которому я, по роду своей работы, не имею ни малейшего отношения!
— Ну а ты? Скажи же что-нибудь! — обратился ко мне директор.
Я не собирался вступать в беседу, но в это время Такагава, пододвинувшись поближе к Окано, обратил к нему свою лошадиную физиономию.
— Послушайте, благодаря этому меня могут зачислить в штат… Спустя десять лет!.. Вот поэтому… Поэтому тебя покупают?!
— Господин Окано, постарайтесь понять… — сказал я.
— Понять? Что понять? Войти в его положение, что ли?… Но ты же сам инженер, тоже занимаешься техникой. А коли так, стало быть, и поступай как положено настоящему инженеру!
Я снова ощутил, как из самой глубины души поднимается горячая волна гнева. Нам, с трудом выбившимся в инженеры из рядовых рабочих, на каждом шагу давали понять превосходство инженеров с законченным университетским образованием. После короткого, всего лишь трехмесячного испытательного срока их сразу зачисляли в штат на инженерную должность. А нам, чтобы получить такое же место, требовалось проработать на верфи не меньше двадцати лет! Мы начинали работать при нехватке рабочей силы — во время войны рук не хватало. Капитуляция спасла нас от отправки на фронт, благодаря поражению в войне мы со временем доросли до инженеров, но за спиной нас ехидно называли «потсдамскими»… Шли годы, число инженеров с законченным высшим образованием постепенно росло, а количество «потстдамских» инженеров соответственно убывало. Ни при каких обстоятельствах нас не могли назначить начальниками отделов. Даже в разговоре с дипломированными коллегами мы обязаны были соблюдать дистанцию.
— Господин Окано, конечно, вы можете позволить себе рассуждать подобным образом, но мы… — начал я, обращаясь к Окано, который был на добрый десяток лет моложе меня.
— Мы?… Кто это «мы»?… Я говорю о совести, совести инженера!
— Значит, если, например, вот этого Такагаву так и не переведут в штат, ваша совесть и при этом будет спокойна?
— Но ведь это же подкуп… Его просто-напросто покупают…
— Вот и я в таком же положении, как он. Стоит мне ненароком допустить малейший промах в работе, как меня за это уволят, и тогда в отличие от вас, специалистов с дипломом, ни одна верфь больше не примет на службу…
— Да, но поймите же и меня! Я не имею никакого отношения к этим расчетам, и вдруг меня хотят втянуть в какую-то грязную сделку… И потом, ведь есть еще мистер Хьюберт…
— С Хьюбертом я уже обо всем договорился, — сказал директор. — Так что если только ты промолчишь…
— Но даже если вы уже успели договориться с Хьюбертом и, допустим, я тоже буду застрахован от неприятностей, танкер-то с кривизной! Нет, я тут полностью ни при чем. Я хочу как минимум считать себя честным инженером!
— Честным?! — Я выпрямился. — Красивая болтовня! Боишься быть замешанным в этом деле, вот и весь сказ!..
Окано вскочил. «Ну, все…» — подумал я, глядя на сиротливо лежавшую на тарелке утиную ножку, которую только и успел отрезать Окано.
— Господин Окано, в отличие от вас мы не такие благородные, чтобы подчиняться только законам совести!
Окано выскочил за дверь. Директор бросился за ним вдогонку.
Мы с Такагавой молча смотрели на угрюмое море, словно нависающее над городом.
Кадзуо Оикава
Праздничные куклы
Когда поздним холодным вечером я возвращался домой с проводов делегации движения за мир уезжавшей на митинг, посвященный «Дню Бикини» (и назначенный на 1 марта), жена слегка взволнованная, сообщила мне, что уже расставила праздничные куклы для нашей дочери, ученицы второго класса начальной школы.
Значит, наступил праздник девочек, наступил март! Просто не верилось. Мною овладело светлое чувство. Весь месяц я занимался сбором средств, организационными вопросами в профсоюзах и прочими делами такого же рода. И все же мне было стыдно. Стыдно за то, что я забыл о приближении марта, хотя первого марта отмечали «День Бикини» и я принимал в его подготовке самое деятельное участие.
Праздничные куклы купила моя теща, когда дочери минуло три года, они стоили довольно дорого. Расставленные на специальной ступенчатой подставке, покрытой алой тканью, куклы были прелестны, особенно нравились мне пять придворных музыкантов. В то же время алый цвет ткани невольно ассоциировался с другим алым цветом, о котором я вот уже сколько лет никогда не забывал.
— Твои куклы я положила в токонома на втором этаже. Осталось лишь вынуть их из коробки.
— Угу.
«Неужели март?» — теперь уже с болью думаю я. В марте у меня всегда тяжело на душе. И если представить себе память чем-то вроде спирали, то у ее основания я неизменно вижу Время, своеобразный противовес моей жизни, моему существованию. Оно — как груз в неваляшке, который не дает ей упасть.
Ушедший в далекое прошлое март 1945 года… Он снова и снова всплывает в моей памяти. И как свидетельство того времени я бережно храню старые праздничные куклы — императора и императрицу в старинных парадных одеяниях. «Твоя фамильная драгоценность», — часто говорит жена. Она не подтрунивает надо мной, нет, но говорит это с такой легкостью, будто не знает, что я тогда пережил, и это коробит меня.
Я снимаю пальто, поднимаюсь на второй этаж, достаю из старого, потемневшего от времени ящичка праздничные куклы и ставлю их в токонома холодной комнаты. Двадцать пять лет живут они без хозяйки, и за это время состарились. Золотые узоры на их парадных одеяниях поблекли, алый шелк выцвел. Потускнели лица, некогда будто живые. Только руки не утратили своей белизны и очень напоминают руки матери, когда она в последний раз расставляла эти куклы. Холод пробирал до мозга костей, и вдруг из глубин памяти на меня повеяло другим холодом, холодом тех далеких времен.
Да, в тот день было холодно. И не только в тот день. Зима 1945 года была в Токио очень суровой, в полном смысле этого слова военной зимой. Налеты американской авиации становились все ожесточеннее, внушая людям мысль о близкой смерти. В конце февраля выпало столько снега, сколько не выпадало со времен Мэйдзи. Я учился тогда в пятом классе народной школы и все происходящее переживал впервые: и необычный холод в начале года, и низко нависшее свинцовое небо, и снегопад. Быть может, потому все это и запечатлелось в памяти.
Мы жили в переулке вблизи храма Китидзёдзи, в районе Комагомэ. Неподалеку был еще целый лабиринт переулков и улочек и множество небольших храмов. Идешь-идешь — и вдруг перед тобой высокая ограда или ворота, а за ними — белые стены храма. Из-за ограды свешиваются густые ветви вечнозеленых деревьев, поэтому вечерами и в ненастные дни переулок погружается в зловещую темноту. И этот сумеречный переулок и пасмурное зимнее небо вспоминаются теперь как воплощение того гнетущего, страшного времени.