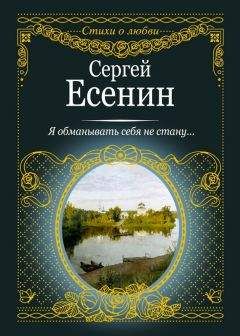Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 10 2005)
И почему одному человеку достается так много страданий? За что он платит: за свое распутство или за грехи родителей? Близким всегда кажется, что лучше бы все произошло с ними, они лучше подготовлены к несчастьям и физическим страданиям. Я не знаю, как Саломея это все перенесла и продолжает жить. Но по утрам, когда эта птичка, с хрупкими плечиками и крылышками, варит себе манную кашу, кормит собаку и говорит со мною своим похожим на вздохи виолончели голосом, такая волна сочувствия и жалости охватывает меня, такое ощущение безграничного и полного счастья, что я начинаю благодарить за милость Бога, продлившего нам обоим жизнь. Моя жизнь? Может ли она быть полной, когда рядом мучается любимый человек?
Почему меня преследуют эти воспоминания?
Тогда, во время первой операции, я думал, что буду делать, как выстрою свою жизнь, если, не дай Бог, с Саломеей случится непоправимое. Деньги в конечном счете решают многое, я проник, имея в портфеле собственный белый халат, в хирургическое отделение института, где ей делали операцию. Я подходил к двери реанимации. За несколько часов до этого я сидел в скверике внизу, на первом этаже, а доверенные люди вели по мобильному телефону чуть ли не прямой репортаж из операционной! Все вроде протекало по намеченному плану. В металлическую дверь, ведущую в отделение реанимации, был вделан стереоскопический глазок: изнутри можно было видеть, кто стоит за дверью. Зачем? И тут же я подумал о времени: сколько расплодилось болезней и наркоманов. За металлической дверью наркотики. Врачи, ведущие борьбу за жизнь пациента, находящегося в равновесии “да” и “нет”, должны еще думать о том, что кто-то может ворваться к ним и ударить дубиной по голове.
К этой намертво закрытой двери с впаянным в нее рыбьим глазком я возвращался много раз. Кажется, мои подошвы на площадке выбили углубления в бетонной плите. Меня пустили только на десять секунд, чтобы я смог убедиться, что она жива. Саломея лежала с закрытыми глазами, без одеяла и подушки; сияющий под потолком фонарь высвечивал все складки и изъяны тела, огромный пластырь на животе, прикрывающий хирургический разрез, бритый лобок…
Потом одна операция наслоилась на другую. Сейчас я уже не помню ни дат, ни последовательности, ни даже времени года: весною, летом или в начале осени? Я только помню солнце в окне, когда Саломею везли из реанимации в палату. Ее ввозили, а потом перекладывали с каталки на койку здоровые, как кобылицы, молодые сестры. В этот момент я всегда переживал, что у нас нет детей и Саломея ощущает только чужие прикосновения. Что я? Я только могу надеть на нее носки, потому что ночами у нее мерзнут ноги, могу сунуть каждой из этих теток, знакомым сестрам, дежурным фельдшерицам, нянечкам, заканчивающим смену, и нянечкам, смену принимающим, диетсестре, сестре в коридоре на пункте, санитарке в столовой — всем, кто мне попадется, по полста рублей, по сотне, по плитке шоколада и двадцать раз спросить у тени Саломеи: тебе что-нибудь купить, что тебе принести?
Я жил, как обессилевший пловец, от одного лихорадочного вздоха до другого. Удастся ли сделать третий?..
Два героя моей лекции жили тоже в полном напряжении духовных сил, но все же не так суетно. Ломоносов часами не выходил из своей химической лаборатории и, как приклеенный, делал переводы с немецкого или французского работ своих бездарных коллег-академиков. Не из-за славы, конечно, и Пастернак будто каторжный переводил Шекспира и занудливую вторую часть гётевского “Фауста”. Можно сказать, что и в этой работе их посещали гениальные прозрения, но это вовсе не оттого, что оба они сидели в соленых от пота на спинах рубашках. Это потому, что оба были гении, а гений изобретает свое в любом состоянии. Но ни тот, ни другой никогда не стирали себе носков и трусов, не гладили рубашек и концертных платьев жены. Вокруг были помощники, ученики, слуги, начинающие поэты. А впрочем, кто досконально и в точности знает чужую жизнь? Вот Пастернак описывает свои бытовые заботы тогдашнему близкому другу Борису Ливанову, выдающемуся артисту МХАТа: “Золото мое Боричка! Я дико занят. На мне две пустые квартиры, дача, чужие неразочтенные домработницы, самые разноречивые хозяйственные заботы. Все мои кто где, на Каме, в Ташкенте, под Челябинском. Изредка у меня ночные дежурства в Лаврушинском, где я прохожу ежедневное военное обучение”. А дата на письме — сентябрь 1941-го, и Москву, между прочим, бомбят…
Несчастия, как правило, имеют парный характер. Я взял в дом собаку, потому что понимал: находиться в квартире совсем одной весь день Саломее будет невозможно. Это было некое решение задачи, но кто бы стал тогда предполагать, что детство, юность и зрелость нашей дорогой псины про-мелькнет у нас перед глазами, как в кино при замедленной съемке. Роза пришла к нам в дом детенышем — которому было позволено перегрызть все ботинки и туфли, особенно страдали задники, — и вот она уже наша ровесница. Почти одновременно один врач сказал, что необходимо срочно оперировать Саломею, а другой — что нужно немедленно вырезать опухоль у Розы.
Кто же отвечает за собственную психику, полную необъяснимых искривлений? Роза была не только спутником, но и неким талисманом Саломеи. Как же она будет возвращаться из больницы, открывать металлическую дверь, потом другую, деревянную, включать свет и не видеть, как откуда-то из глубины квартиры к ней, ленивая и сонная, направляется Роза. Я тоже привык, что летом, как только принимаюсь ставить во дворе машину, Роза появляется на балконе и, просунув морду между балясинами ограждения, внимательно наблюдает за парковкой. Она прекрасно знает все мои действия и, лишь я подхожу к подъезду, срывается с места: она должна ритуально встретить меня у дверей квартиры. Кто будет меня встречать? Конечно, существовал холодный и вполне современный выход — предоставить все естественному течению событий, а в случае необходимости, при неизбежном, немедленно купить другую собаку. Но она никогда не будет такой же. И это не для Саломеи, с ее поистине собачьей привязанностью и верностью.
Я втайне от нее ходил к ветврачу на Пироговскую улицу, проконсультироваться по поводу опухоли у Розы. Это случилось во время первой операции Саломеи или во время второй? Я отчетливо помню сам трагический эпизод, когда совместились, вызывая во мне ужас, происшествие с собакой, операция Саломеи и, главное, то чувство неуверенности, неясности дальнейшей жизни, которое вдруг накрыло меня.
Поэтапно я помню, и это повторялось два раза, при обеих операциях, все свои — ну, нескромно назовем это так — переживания. Мы расстаемся перед операцией с Саломеей, я подбадриваю ее, говорю, что все это ерунда, что подобное давно наработано медициной и представляется теперь столь же без-опасным, как удаление аппендикса, еще несколько десятилетий назад считавшееся опасным. Она говорит: “Ни в коем случае не приходи завтра утром”. Операцию обычно делают в первой половине дня. Утром и вечером накануне больных готовят, и она не хочет, чтобы я увидел ее непричесанной, увидел испытываемые ею страх и стыд, когда сестры и нянечки манипулируют ее телом: моют, ставят клизму, бреют лобок. “Сиди дома, — говорит она, — все забудь и работай”. Я соглашаюсь с нею, но знаю, что завтра, еще до начала операции, буду сидеть в скверике у больницы и, ничего не воспринимая, пустыми глазами читать кого-нибудь из двух своих любимцев — Ломоносова или Пастернака.
Не стану здесь описывать это свое ожидание, звонок по мобильному телефону лазутчику и конфиденту Дмитрию Николаевичу, который может войти даже в операционную. Возраст и работа со студентами подразумевает, что у всех у них есть родители, и если внимательно поискать, то кто-то заходит в главное хранилище Центрального банка, кто-то — в приемную президента Федерации, а кто-то — и в операционную нужной больницы.
Через три часа операция заканчивается. Пообещав Дмитрию Николаевичу немыслимо какие преимущества и помощь в учебе для совершенно бездарного и безответственного его ребенка, я добиваюсь возможности краем глаза взглянуть на почти безжизненную Саломею, “спящую” Саломею, которую на каталке перевозят из операционной в бокс реанимации. Потом еще час или два ожиданий, во время которых врач-анестезиолог, как жрец, стоя над ее безгласным телом, заклинает: “Саломея Нестеровна, вы слышите меня?” Наконец Дмитрий Николаевич звонит мне по мобильному: “Все в порядке, она проснулась, чувствует себя нормально, смело идите домой. Ее переведут в палату не раньше чем через сутки или двое”.
Я не умею ждать двое суток. Отчасти я устарел, как трифоновский герой Кандауров, мне все надо сделать “до упора”, у меня все спонтанно, но все и распланировано. Уже неделю, пока Саломея лежит в больнице, я каждый день вожу ей еду, которую она не ест, и фрукты, которые ей хочется, но которые ей есть нельзя. Ни одна душа не знает, что я нахожусь во внутренней панике, которую стараюсь ничем не выказывать. У собаки, у Розы, под мышкой огромная, с ладонь, опухоль. То есть у нее две опухоли: одна на бедре, эдакий бугорок, который она все время лижет, почти разросшаяся родинка, об этой опухоли мы знали, и, по правилам, ее давно надо было вырезать. Я так это себе и наметил — когда Саломея будет в больнице, свожу Розу в ветлечебницу на улице Россолимо. Копеечное, как мне казалось, быстрое дело под местным наркозом. Но не тут-то было...