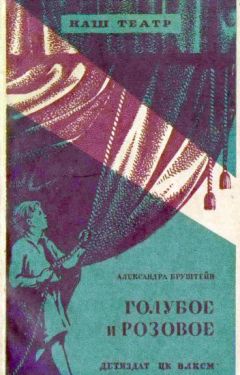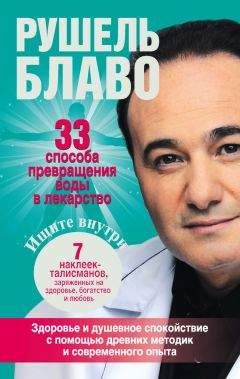Лео Яковлев - Голубое и розовое, или Лекарство от импотенции
Глава 7
О недолгом пребывании главных действующих лиц на земле обетованной
Земля обетованная для меня лично не была ни исторической, ни духовной родиной, но когда началась довольно массовая эмиграция из Энска, задевшая и без того редеющий круг моих приятелей, я почему-то тоже заволновался. Мое волнение уходило своими корнями в глубь веков и было разновидностью изначального стадного чувства, видимо, присущего в зародыше всему живому. Размышляя об этом, я вспоминал, как волновались куры и петухи, когда над ними с перекличками пролетал куда-то клин каких-нибудь больших птиц. Инженерная среда в Энске, в которой прошла, по сути дела, вся моя жизнь, была основательно заевреена, славянские и еврейские семьи были почти повсеместно перемешаны, и я привык к еврейским проблемам и разговорам. Тем не менее, я не считал, что имею основание сказать: я знаю евреев, знаю еврейский народ, — поскольку «владение» и использование нескольких общеизвестных слов типа «агицен паровоз», «азохун вей», «шалом», «лыхаим» и «бекицер» не означало понимать душу народа. К тому же жизнь и быт местечек, где расцветала эта душа, был мне чужд, из всей обширной «местечковой» еврейской литературы, я прочел с истинным удовольствием только шолом-алейхемские «Блуждающие звезды», где разрываются оковы этого ассоциировавшегося в моем представлении с двором Абдуллоджона замкнутого затхлого мира и перед его пленниками, сбросившими эти тяжкие оковы, открывается дорога в блистающую всеми красками бытия Вселенную. Ну а что касается позднейшей советско-еврейской культуры, после отстрела ее главных деятелей в пятьдесят втором существовавшей на уровне городского фольклора, то мои познания ограничивались песнями, типа «Когда еврейское казачество повстало, в Биробиджане был переполох» и — на мотив знаменитой «Мурки»: «Вышли мы на дело — я и Рабинович, Рабинович выпить захотел», которые я, естественно, до конца так и не запомнил. Еще одну песню, звучавшую в послевоенные годы по энскому радио почти каждый день, в которой повторялись слова: «Гэй, люди йидуть в Палэстыну», я считал вполне еврейской, однако потом мне объяснили, что это — местный фольклор, никакого отношения к евреям не имеющий. Тем не менее, когда определенные «люды» стали сначала поштучно, а потом в массе «йихати» в «Палэстыну», песню эту, видимо, на всякий случай из радиопрограмм изъяли. Чтобы как-то расширить свои познания о будущей родине я, завершая дела в Москве, то и дело вырывал минутку на осмотр книжных развалов, но еврейская тема на них была представлена «Моей борьбой» бесноватого Адольфа, «Протоколами сионских мудрецов» и еще десятком их современных истолкований. Так что ничего полезного для себя не нашел. Поэтому я с радостью купил отрывной «Еврейский календарь», выпущенный в Туле или в Калуге, когда он оказался в сумке повагонного разносчика книг и газет. Открыв его наугад, я попал на заповеди Господни, одна из которых была сформулирована следующим образом: «Люби своего отца и мать твою…» Прочитав такую мудрость, я тут же выбросил календарь за ненадобностью, не оторвав ни единого листка. Правда, некоторое представление о местечковом еврействе в моем Энске могли дать персонажи, восседавшие в будках двух конкурирующих артелей «Рембыттехника» и «Металлобытремонт», ласково именовавшихся энскими обывателями — и славянами, и евреями — «Ремжидтехника» и «Металложидремонт». Долгое время это довольно богатое по советским временам сословие само себя воспроизводило. Во всяком случае, при редких посещениях этих будок мне приходилось видеть рядом с важными пожилыми хозяевами молодую поросль, имевшую не только глубинное, но даже и внешнее сходство со стариками. Самому мне в Энске общаться с этими людьми накоротке не приходилось, и чем они жили я не знал. Более того, среди довольно большого числа евреев — моих соучеников и коллег не было выходцев из этого специфического круга, и я сделал для себя вывод, что он, этот круг, представлял собой довольно изолированную касту или гильдию, на манер «цехов» рымарей, коцарей, резников и прочих, существовавших в Энске пару столетий назад и оставивших след в названиях улиц и в «Энеиде» жившего неподалеку от Энска Котляревского. Когда же рухнули преграды, поставленные властями на пути эмиграции, эти будки стали закрываться одна за другой быстрыми темпами, и меня всегда интересовал вопрос, как управилось государство Израиль с наплывом таких специалистов. В то же время я, может быть, даже лучше многих своих еврейских знакомых осознавал, что Израиль отнюдь не страна местечек, и жизнь там непохожа на жизнь героев, созданных воображением Шолом-Алейхема. Я иногда в своих фантазиях видел себя приезжающим туда повидать старых друзей. Однако в бешеном темпе своих энских сборов и вообще в суматохе последних двух месяцев своей жизни я не успел обзвонить немногочисленных еще остававшихся в Энске общих знакомых и собрать израильские адреса. И теперь из-за этого я прибыл в совершенно чужую страну, а шансы случайно увидеть кого-нибудь из этих энских выходцев были практически равны нулю.
Мое финансовое положение, благодаря солнцевскому кощею, позволяло нам для начала побыть здесь туристами и не спеша решить, будем ли мы пополнять собой алию и принимать местное гражданство. Тель-Авив и средиземноморское побережье как объекты туризма меня не интересовали. К тому же, напутствуя нас перед дальней дорогой, кощей дал понять, что и в Израиле у него все схвачено, и если мне вдруг понадобится помощь, я смогу обратиться к человеку, чье имя и телефон указаны на визитке, которая была им мне вручена. На визитке был указан и адрес моего будущего ангела-хранителя в одном из пригородов Тель-Авива. Обращаться мне к нему пока было незачем, но само его присутствие здесь порождало во мне смутные подозрения, что если кощей мог обзавестись здесь представителем, то и тем, кто нюхает мои следы, это тоже не заказано. Поэтому я еще в самолете принял решение в этом деловом сердце Израиля — «Большом Тель-Авиве» пробыть как можно меньше. Из всех израильских городов и весей мне более всего хотелось побывать в Эйлате и в Иерусалиме. В последнем я надеялся услышать голос Бога, не искаженный всяческими отрывными календарями, поскольку в памяти моей уже многие годы сидела фраза из какой-то случайно подслушанной молитвы: «…Ибо из Синая исходить будет Тора и слово Господа из Иерусалима…». Но и в Иерусалиме в момент нашего прибытия была какая-то очередная напряженка, и разные добрые люди советовали всем без крайней необходимости там не появляться. Я этому совету внял. Ждать было бессмысленно, и я решил, что мы можем сначала съездить в Эйлат, а так как Иерусалим уже обходился без меня больше трех тысячелетий, то подождет и еще месяц-другой. Тем не менее, мне все же пришлось провести два дня в Тель-Авиве, чтобы отрегулировать свои банковские дела. Остановились мы в Рамат Гане в гостинице «Кфар маккабиах» — я выбрал ее еще в Вене, заглянув в израильское Verkensbureau на Розанер Лаэнде, по той причине, что номеров в ней было не так много, чтобы нарваться на какие-нибудь массовые мероприятия в фойе, ресторане или конференц-зале, и не так мало, чтобы появление старика с внучкой привлекло внимание постояльцев и администрации. Тель-Авив меня ничем не поразил. Город как город, только немного больше евреев и арабов, чем в российской столице. С большим удовольствием, ни на шаг не отпуская от себя Хафизу, я побродил по булыжным мостовым Старого города в Яффо. Хафизе Яффо тоже понравился — минареты Старого города напомнили ей поездку в Самарканд и, особенно, посещение Бухары, и она немного взгрустнула. В Эйлате, куда нас за полчаса домчал из Тель-Авива небольшой самолет, я, верный своим принципам, выбрал одну из самых скромных гостиниц — «Ади», и когда мы заняли свой номер, я впервые с того раннего утра, когда я сел в машину тонтон-макута, чтобы ехать в Уч-Курган, почувствовал, что я действительно, наконец, могу отдохнуть. Этим я и занялся. Отдых, правда, был не абсолютный: я стал практиковаться в разговорном английском языке и приспособил к этим занятиям Хафизу. Вскоре, однако, выяснилось, что языки ей даются легче, чем мне, и, несмотря на то, что у меня за спиной были лет пять школьного английского, потом пять лет институтского со сдачей тысяч и тысяч знаков и потом остальная жизнь с подчитыванием журнальчиков, в основном, подписей под картинками и технической информации, она стала меня обгонять и в произношении, и в смелости использования этой совершенно чужой для нее речи. К тому же оказалось, что за время вынужденного сидения перед телевизором на «хате» в Солнцево, когда я отлучался в Энск, она полностью и во всех деталях освоила «сексуальную» часть английской, а вернее — американской лексики, и теперь «свои» приставания ко мне в постели она сопровождала страстным выдохом двух слов: «фак ми». Я смеялся и отвечал, что плохо себя чувствую и пока не могу этого себе позволить. Свое пристрастие к этим запретным играм она по-прежнему объясняла острым желанием выяснить, чем я мог околдовать Сотхун-ай. Но я, когда затянувшийся первый шок от ее откровенной активности прошел, наконец понял, что Бог мне послал вампира: Хафиза явно подпитывалась моей энергией. Однако эта отбираемая ею энергия была для меня, вероятно, излишней, а, может быть, и чуждой, потому что после этих развлечений самочувствие мое явно улучшалось, а вместо тяжести в соответствующих местах своего тела я ощущал общее облегчение и даже бодрость. Иногда мне казалось, что ее изобретательность в этих играх переходит в исступление, и я пытался как-то ее отвлечь, переключить ее внимание. Однажды я вспомнил свою давнюю подругу, любившую разнообразить интимные отношения похабными мужскими анекдотами, и решил попробовать этот вид отвлекающих маневров на Хафизе. К этому времени ее настойчивость стала давать некоторые результаты и бесформенная «тряпочка», свисавшая у меня в нижней части живота, под ее ласками временами начинала принимать былые формы. Конечно, и уровня твердости, и продолжительности существования этой «рабочей» формы, было недостаточно для овладения шестнадцатилетней девственницей, и Хафиза это чувствовала, но я был почти уверен, что этих моих восстановленных ею сил вполне хватило бы на даму средних лет с привычкой и постоянной готовностью к интимным отношениям. Но такой дамы поблизости не было, и когда Хафиза, меряя двумя своими ладошками мой прибор и не обращая внимание на мои муки, потихоньку издевалась надо мной, я решил прервать эту сладкую пытку вспомнившимся мне анекдотом из серии «кстати о птичках». Когда я подошел в этом известном анекдоте к тому моменту, когда грузин, вмешавшись в разговор двух дам о канарейках и волнистых попугайчиках словами «кстати о птичках», поведал им о своем друге Гиви, который на свой член мог посадить не только двух попугайчиков и канареек, но и двух хохлаток, я вспомнил и рассказал Хафизе, что впервые мне этот анекдот рассказывал вполне натуральный грузин, перепутавший хохлаток… с хохлушками. Но несмотря на добавление, никакого впечатления на Хафизу этот анекдот не произвел. Как выяснилось, она не знала ни кто такие грузины, ни кто такие хохлатки, ни кто такие хохлушки. Я с уверенностью пообещал еще в пределах Эйлата показать ей живого грузина и двух хохлушек и прекратил свои эксперименты с анекдотами.