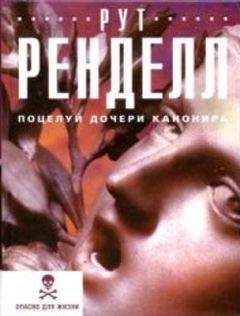Ромен Гари - Цвета дня
— Нас сейчас затопчут, — произнес он. — Сюда…
Он подтолкнул ее к бару, оберегая от толпы, пытавшейся увлечь ее за собой, отворил дверь и пропустил вперед; она сделала несколько шагов — и первое, что увидела, это что у него нет одной руки и что он на нее смотрит.
Сердце ее замерло, затем забилось сильно-сильно, и какое-то время она еще пыталась уверить себя, что это из-за пыли и толкотни или из-за возмущения оттого, что он так пристально смотрит ей в глаза, и все же ей не удавалось отвести взгляда.
Они стояли неподвижно друг против друга, вокруг сновали люди, а они читали в глазах друг друга признание в глубокой тоске, которое было первой откровенностью, которой они обменялись, а затем она ему улыбнулась.
Позднее она, наверное, часто спрашивала себя, откуда у нее взялась смелость повести себя с такой спокойной и полной уверенностью, как смогла она тут же, ни секунды не поколебавшись, узнать, что человек, так моливший ее взором, не был обыкновенным завсегдатаем. Но ответ на этот вопрос был, разумеется, настолько же прост, насколько сложно для женщины с ним согласиться: это бы ничего не изменило. Будь он самым банальным искателем приключений, у нее бы не было выбора. Возможно, в любви никогда нет выбора. Может случиться, вы будете жалеть о нем всю жизнь, но вы никогда не ошибаетесь. Единственное, что можно сказать наверное, с безграничной горечью думала она позднее, это что мне повезло.
Никто не обращал на них внимания, накладные носы, приклеенные бороды, остроконечные шляпы и маски врывались в кафе, танцуя и крича, но они слышали лишь тишину, свою тишину, полную приглушенного внутреннего биения и куда более громкую, чем шум карнавала; и от окружавших их разноцветных масок в них лишь усиливалось чувство близости и обособленности и то нарождавшееся ощущение, что наконец-то они достигли настоящей земли, что они стоят на той, другой, и наконец-то человеческой планете, жить на которой можно лишь вдвоем.
А Вилли, который столько лет провел настороже, живя в страхе перед этим мгновением, ничего не замечал, ни о чем не догадывался и продолжал шутить с Гарантье, смахивая с его одежды конфетти.
Затем он повернулся к Энн и наконец-то увидел, и у него задрожали губы, а на лице отразился испуг.
Ла Марн стоял, не двигаясь, с раскрытым ртом и поднятым бокалом; он полностью покинул свою оболочку и теперь жил в этой паре, паразитом, вуайером — он просто старался не дышать, ничего не опрокинуть; лишь бы только Это состоялось, думал он, лишь бы только Это наконец-то состоялось; даже если бы Это случилось со мной, а не с Ренье, я был бы доволен; лишь бы Это случилось с кем-нибудь, пусть даже всего лишь со мной.
Ренье почувствовал, как сигарета жжет ему руку, а сердце колотится от страха и смущения, и он принялся искать слово, пытаясь сказать одну из тех фраз, которые он уже давно заготовил и повторял, предвидя этот миг, и которые начисто вылетели у него из головы, и внезапно он вспомнил обо всех своих товарищах и обо всем, к чему тщетно стремился, о справедливости и о братстве, а затем улыбнулся, и ему стало ясно, что отныне на меньшее, чем она, он не согласится.
Не стоило и пробовать ничего из того, чего не мог совершить в одиночку вкус твоих губ, вероятно, можно было жить и вне их, но — в изгнании.
Голубка моя — и как же нужно было, чтобы это слово вернулось к тебе! — наконец-то в твоих глазах я видел твердую почву; и все, что я тщетно искал в Испании, во Франции и в зыбком небе Европы, я наконец крепко держал в твоих глазах.
VIIIЕсли бы они только заговорили, между ними все тотчас лопнуло бы, думал Вилли, такие мгновения не выдерживают слов — стоит людям начать говорить друг с другом, как они тут же становятся чужими. Он сел за столик, оставив их одних: все что угодно, только не быть третьим. И разумеется, это я подтолкнул ее сюда, думал он, стараясь сохранить улыбку, это я открыл ей дверь: вот теперь-то я смогу говорить, что она обязана мне всем. У него начинался приступ астмы, и он положил в рот сразу две конфетки с фенерганом; он все еще старался не верить происходящему и наблюдал за сценой с позиций циничного знатока жизненных ситуаций — а также с любопытством и насмешливым безразличием человека, заранее знающего, как они заканчиваются, — как зритель, который заранее оплатил билет, чтобы присутствовать при падении Икара.
— Я вас уже не ждал, — сказал Ренье.
Она рассмеялась, и Вилли почувствовал облегчение: это было несерьезно. Может, они даже и не переспят. Гарантье чувствовал, как его ладони становятся влажными, и это наполняло его отвращением: не из-за самого пота, а из-за того, что он волновался. Он принял вид настолько достойный и отрешенный, насколько это было возможно: сцена и вправду была возмутительной; Энн застыла перед незнакомцем, вдобавок ко всему вечером, во время карнавала, и чувствовалось, хотя это еще и не было видно, что они уже держатся за руки, — ладно еще, когда подобные вещи происходят в каком-нибудь балете Дягилева, но в жизни. Это и в самом деле было верхом дурного вкуса. В этой сцене присутствовало все, даже маленькая цветочница, которая стояла сбоку от них в своей ниццианской шляпке и протягивала букет. Теперь они оживленно разговаривали, и Вилли бросил на Га-рантье отчаянный взгляд; он рухнул за столик, — воротник пальто приподнят, свистящее дыхание, — стараясь улыбаться и как можно больше походить на Вилли Боше: на него с любопытством поглядывали, и единственным выходом было притвориться, что находишь это естественным, чтобы заставить всех думать, будто речь идет об общем друге. Когда Энн и Вилли вошли в кафе, Сопрано не смог удержаться от изумленного жеста, и теперь он наблюдал за встречей округлившимися глазами. Барон, похоже, тоже не мог оторвать взгляда от этой пары, но, вероятно, это оказалось лишь совпадением; он не пошевелился, просто повернулся всем телом в их сторону. Ренье взял букетик фиалок и протянул его Энн; она поднесла его к лицу, а Гарантье скривился и отвернулся, и даже Вилли не смог удержаться от усмешки перед банальной вульгарностью этого жеста. В облаках конфетти Сопрано встал, допил диво, поставил бокал на столик и сдвинул на затылок панаму.
— Подождем их на улице, — решил он. — Я всегда говорю: будь верен работодателю!
Его спутник резко кивнул в знак согласия, и, похоже, Сопрано это очень удивило: но, вероятно, это был всего лишь трупный рефлекс или икота, и барон остался абсолютно прям и безучастен в своем сером котелке — денди до мозга костей. Сопрано повел его к двери, нежно поддерживая под руку; он жестом останавливал молодых людей, пытавшихся бросить горстку конфетти в лицо барону, и произносил своим торопливым, чуть хриплым голосом:
— Permesso... Он очен крупкий… Очен крупкий!
Так ему удалось вывести барона на улицу без ущерба, если не считать нескольких гипсовых крупинок на лице. Кафе все больше наполнялось людьми, и Вилли выгибал шею, стараясь не потерять Энн из виду, и сохранял при этом как можно более небрежную мину под взглядом теснившихся вокруг него поклонников.
— Идемте, — сказал Ренье. — Выйдем отсюда. Здесь слишком людно.
Она, похоже, замялась, бросила на него почти умоляющий взгляд, и они оба, пусть это было глупо и комично, чувствовали, что так не делается, что необходима какая-то оправдательная причина, какой-то предлог: они еще ощущали вокруг себя путы мира, враждебного к тем, кто пытается ускользнуть от него, — и он заплатил дань приличиям, быстро проговорив едва различимым и прерывающимся от волнения голосом:
— Потому что я знаю одно место, откуда можно увидеть всю процессию, не рискуя быть сбитым с ног.
— Я не одна, — сказала она и тут же добавила, чтобы успокоить его: — Вообще-то я имею в виду отца.
— Который из них ваш отец? Надеюсь, оба?
— Оба, — быстро произнесла она тихим голосом, как будто тайком пожала ему руку.
Резко и вызывающе тряхнув копной волос, она оставила его и направилась к Вилли в другой конец зала. Подходя, она еще улыбалась, и Вилли сорвал с ее губ не предназначавшуюся ему улыбку. Он церемонно встал.
— Не ждите меня, — сказала она. — Встретимся в гостинице.
Вилли поцеловал ей руки. Он сделал это в совершенно отцовской и чуть снисходительной манере, не став склоняться сам, а поднеся руки Энн к своим губам.
— Какой взгляд, дорогая! Я счастлив, что в вас это есть. Не сомневаюсь, вы сделаете прекрасную карьеру. Очень красивая сцена: в лучших традициях немого кино. У самой Греты Гарбо не получилось бы лучше. Вы так потрясли своего отца, что ему пришлось целиком уйти в созерцание картинки на календаре — по-моему, это «Ангелус» Милле, — а для того, кто знаком с его художественными вкусами, очевидно, что раз уж он дошел до такой крайности, значит, ему, вероятно, пришлось выбирать между «Ангелус» и еще более оскорбительной картиной… В завершение два маленьких замечания. Во-первых, будьте осторожны в выборе отеля. Помните о моей репутации. В Ницце найдется добрая дюжина журналистов, которые только этого и ждут… Кстати, в котором часу вы хотите принять ванну завтра утром?