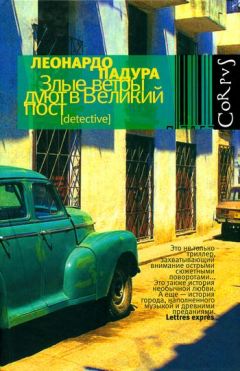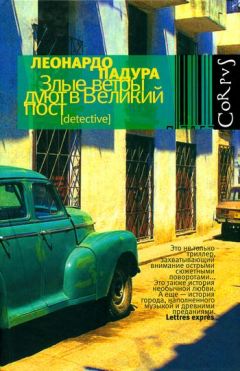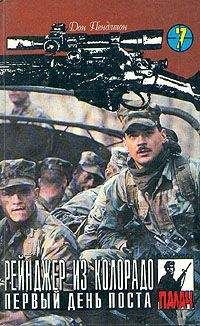Франсуа Нурисье - Причуды среднего возраста
Но мало-помалу его бдение при свете дня отягчается второстепенными, мимолетными впечатлениями. Течение жизни потихоньку меняется. Люди вдруг заторопились и начали возвращаться к своим заботам. Шум вокруг нарастает, день катится дальше, набирая обороты. На дворе тот час, когда затихает последнее дуновение ветра. К чему продолжать путь, изображая такую целеустремленность? Бенуа прошелся по Зоологическому саду сквозь чередующиеся островки зелени и выжженные солнцем открытые места, после чего выбрал одну из аллей на стороне Музея естественных наук и пошел по ней, сразу же выпачкав в пыли ботинки. Вновь поднялся к мечети, стараясь держаться узеньких улочек и тени. Вот он заходит в маленькое кафе на улице Грасьёз и прямо у стойки выпивает чашечку кофе. Улицы Декарта и Хлодвига запружены школьниками. Лицей Генриха IV заглатывает их маленькими беспечными группками. Еще совсем недавно он иногда приходил сюда встречать Робера. Сейчас Робер учится в лицее Людовика Великого. И кажется, он был одним из заводил в прошлогодних школьных волнениях. Во всяком случае, к такому выводу можно прийти, зная, что он исповедует мораль закоренелого драчуна. Роже тоже не приемлет диктата взрослых. А поскольку Бенуа не мог диктовать французской молодежи ничего, кроме замшелых истин, то все их споры на эту тему прекращались, едва начавшись. К грусти, что он больше не узнает своих сыновей, примешивается досада на то, что он такой же, как многие другие отцы. В этом тоже нет ничего оригинального. И все это, в чем не стоит усматривать никакой катастрофы, скорее, вызывает у него печальное недоумение и не слишком занимает его мысли. Миропорядок, оскорбляющий его мальчишек, гнетет его еще больше, чем их, и его бунт, в результате которого четыре или пять жизней могут разлететься вдребезги, гораздо опаснее. Поди объясни это детям. Если бы он вдруг однажды рассказал им о том, что думает об «устройстве жизни» и как обходится с ним, его дорогие хищнички, потрясенные и преисполненные презрения, вмиг созрели бы для визита к психотерапевту. Какой же все-таки жестокой может быть жизнь! Только-только сорвавшиеся с ваших губ слова она заносит в протокол, и вот вы, совершенно неожиданно для себя, оказываетесь перед жандармами. Но не будем опережать события. Не надо омрачать замечательную пору их детства. Как же они прекрасны! Замша, бархат на их изящных фигурках, кашемир: они все как один в униформе цвета бронзы и песка с двумя-тремя цветными штрихами, и эти их роскошные шевелюры, кудри, аккуратные проборы, а также непослушные и слегка всклокоченные волосы, в мое время такие прически носили лишь английские спортсмены, и то не все, а только голубых кровей. Улица Хлодвига в руках отпрысков лордов, будущих студентов Оксфорда, которые обходят Бенуа стороной, словно он пария из их индийских владений или какой-нибудь рыжий ирландец, в конечном счете годный только на то, чтобы уехать в Нью-Йорк и стать там полицейским, носящим на огромном пузе маленький листочек зеленого клевера. Ну что за вздор! Вздор! Как же ему хотелось, чтобы его сыновья Роже и Робер были совсем другими. Не были бы похожими на него, это ясно, но главное, не были бы похожими на те образцы для подражания, что всегда предлагает молодым их время. Чтобы выпадали из общего ряда, пусть даже были бы белыми воронами! Но приходится довольствоваться тем, что они «золотистые бараны». (Это мама в 1937 году поведала мне о существовании такого животного с драгоценным мехом: «Если бы мне не надо было столько платить за твою учебу, я непременно бы купила себе шубку из золотистого мутона». Маме всегда приходилось идти на большие жертвы, и из-за этого она не могла позволить себе ничего, кроме скромных костюмчиков и дешевеньких пальтишек.) А ему хотелось видеть в их глазах, да, да, в их прекрасных глазах некую «сумасшедшинку», неистовство, неожиданные порывы, непомерные амбиции! С какой радостью он склонил бы тогда голову перед своими сыновьями, признав их превосходство или их новизну. А вместо этого ему пришлось бы (если бы он вдруг на это согласился) выслушивать модные избитые фразы. Но он ловко уклоняется от подобного испытания. Впрочем, его и испытанием-то не назовешь. Это как болевая точка, как задача, не имеющая решения, мысли о которой мы вечером загоняем в самый дальний уголок своей памяти, но с пробуждением они вновь вылезают на первый план, тревожат нас, настойчиво требуют внимания. Что ж, его песенка спета. Скачущие мысли больше не вызывают у него желания обуздать их. Он дает волю фантазии. Спектакль. Фольклор. Пусть они рушат существующий порядок, если хотят и могут это сделать, но только не рассчитывайте на то, что и я буду размахивать вашими красными и черными флагами. Он больше не мечтает ни о чем, кроме свободы, свободы великодушной, безграничной, мечтает о жизни без принуждения и угрызений совести, мечтает о вновь обретенном золотом веке, о невинности райского сада, о безмолвии, сопровождающем рождение мира. Ну и как вам это понравится?
На площади Пантеона Бенуа поймал такси. Он садится на заднее сиденье, опускает оба боковых стекла, откидывается на спинку кресла и словно тюк мотается на поворотах из стороны в сторону. Легкая прохлада действует на него благотворно. Он закрывает глаза. А если бы он не закрыл их, то перехватил бы в зеркале заднего вида взгляд водителя, молодого и нервного, рванувшего с места прямо на желтый свет. Таксист не выключил рацию, и в машине раздается женский голос, диктующий адреса. Женщина-диспетчер разговаривает с водителями почти церемонно, подчеркнуто обращаясь к ним на «вы», и, хотя в голосе у нее сквозит усталость, звучит он с профессиональной твердостью, и это почему-то наводит на мысль об Америке. Хотя нет, нью-йоркские таксисты — настоящие скоты с литыми затылками. Их старые желтые «крайслеры» подпрыгивают на выбоинах, несясь через перекрестки в вихре клочков грязной бумаги и зловония. Я покажу тебе все это. А сейчас мы даже не успеем добраться до нужного мне места, как нервный водитель подхватит болтающийся справа от него микрофон и буркнет в него номер своей машины. Как же быстро у них все это происходит, просто поразительно. Им некогда разводить церемонии: адрес, номер, три минуты на то, чтобы прибавить газу, а потом нажать на тормоз, и вот уже в зеркале заднего вида другой пассажир — другой мужчина, так же как и тот, утирающий пот со лба, женщина в облаке духов или супружеская пара с чемоданами. «Пожалуйста, поскорее, я опаздываю. Надеюсь, вы выбрали самый короткий путь?» Чем быстрее, тем больше выручка. А как у нас с выручкой, Фейоль? Нетерпеливо поднятые руки, гонка за чем-то. За чем именно? Весь город опутан сетью линий, на которых звучат просьбы, выражаются надежды. Где-то там, в бесконечности, маршруты вынужденные пересекаются с маршрутами наших желаний, и мы постоянно стремимся выгадать какие-то несчастные пятнадцать минут. Так где же мое место в этом круговороте?
Вот уже семь часов, как он тянет эту лямку. С той минуты, как он проснулся и впервые за день пошевелил рукой, прошло целых семь часов. Состояние деградации, в которое, как мы видим, он продолжает погружаться, есть прямой результат этих метаний, этой эрозии, что вот уже семь часов настойчиво разъедает тщательно спланированный день. Люди, чей самолет сегодня утром поднялся из аэропорта Орли в тот момент, когда Бенуа только просыпался, сейчас летят над лесами и озерами Гаспези и штата Мэн. Леса и озера… Сейчас просто невозможно не заметить и не оценить того растрепанного вида, в котором пребывает Мажелан. Костюм его помят, Бенуа не мешало бы переодеться. В такси он словно тюк, словно неодушевленный предмет мотался то вправо то влево. На подбородке у него уже начала пробиваться щетина. О коже даже говорить не будем, хотя могли бы, поводов для этого предостаточно. Что же до того, что творится в душе у Бенуа, то, видимо — мы, правда, можем опираться лишь на сиюминутные впечатления, — он из последних сил старается сделать то, чего не выполнить нельзя и что на самом деле не представляет собой ничего сверхъестественного и не требует нечеловеческих усилий. Расплатиться, подползти к открытой дверце, которую водитель придерживает, вытянув левую руку. Надеть пиджак прямо на рубашку с закатанными рукавами (его обнаженные запястья сразу же прилипли к подкладке, и он стал похож на беглого преступника, укравшего чужую одежду). Подняться по лестнице.
Не пришло ли время, не назрела ли необходимость перевести объектив камеры, которая позволяет увеличить дальность обзора и создает иллюзию, будто наблюдаешь за всеми с высоты птичьего полета, чтобы посмотреть, чем же занимаются в эту едва перевалившую за полдень первую июньскую среду не только сам Бенуа Мажелан, но и те, чья судьба каким-то образом связана с его судьбой? Можно позволить себе некоторые предположения. Их цель не информировать — информировать кого? — а просто напомнить о том, какое пространство покрывают мысли Бенуа, когда он думает, показать, на какую глубину пробиты галереи его «шахты». Может быть, когда он останавливается между двумя этажами, потому что наверху разговаривают его секретарши, и его внезапное появление может прервать их беседу, часть которой он уже, к стыду своему, услышал, так вот, когда он останавливается (чтобы перевести дух, как сказала бы мама) и пытается связать воедино все эти перепутавшиеся нити, пытается смотать их в единый клубок, пытается, наконец, услышать в едином хоре те разрозненные голоса, что являются частью его жизни и ни на мгновение не замолкают в нем, — возможно именно в эту минуту он окидывает хозяйским взглядом «свои владения», но что он может увидеть внутренним взором, что может представить себе о своих близких? Он располагает лишь какими-то абстрактными фактами, весьма сомнительными и разве что вероятными. Например, он знает, что Роже, студент-медик, может в этот самый момент совершать некие действия, которые, если бы Бенуа их увидел, показались бы ему вполне логичными и нужными, но не видя их, представить себе он не в состоянии. Может, Роже сейчас в больнице? Или в аудитории нового медицинского факультета? Или в одном из кафе на улице Святых отцов в молодежной компании из тех, что приводят Бенуа в ужас и в чью сторону он старается даже не смотреть? А может быть, сидит где-нибудь на улице рядом с белокурой девицей и «дискутирует», как они выражаются, с тем слегка наигранным оживлением, которое он демонстрирует лишь вне дома? Или же есть еще более странные поступки и лица, есть его тайны, есть та другая, не известная никому сторона его жизни? Впрочем, известные стороны жизни сына тоже не то чтобы по-настоящему известны Бенуа, поскольку его представления основываются главным образом на стереотипах, типа «Роже учится на медицинском факультете» и «Роже — мой старший сын», но здесь он, по крайней мере, может почерпнуть хотя бы некоторые сведения и на основе этих реальных фактов додумать остальное; но эта реальность, которая, по всей видимости, довольно долго его вполне устраивала, свидетельствует лишь о черствости и лености его души. А Робер? Где сейчас Робер? Я имею в виду, где конкретно и с кем он сейчас разговаривает, на что смотрят его глаза? Я не заходил в лицей, в котором ему предстоит провести пять лет своей жизни, со времен моей собственной юности. Когда Робер говорит мне: «Он все такой же замызганный», я могу представить себе его класс только таким, каким в 1941 году был мой — третий гуманитарный класс, всегда сумрачный и промозглый, где чах наш местный щеголь господин Риттер. Мне кажется, что наша скромная классная библиотечка, чье место было возле двери в шкафу со стеклянными дверцами, должна по-прежнему находиться там же, и в ней должны быть все те же томики Жида, Аполлинера и Кокто, которые Риттер милостиво разрешал нам читать за неимением более подходящей для школьников духовной пищи, впрочем, его разочарованность в той литературе, которую предписывалось проходить в школе, не позволяла ему пичкать нас ею. Но там ли он, мой Робер? Не носится ли по Люксембургскому саду вместе с какой-нибудь подружкой? Не играет ли в пинг-понг в «Людо»? (Нет, это я играл там двадцать восемь лет назад, вдыхая запах несвежих носков и дезинфекции.) Я ничего не знаю, ничего не вижу. Сегодня вечером Элен скажет мне: «Я обегала все вокруг, чтобы найти тебе летние рубашки, они очень тебе пригодятся, если ты поедешь на этот конгресс. В Монреале в эту пору такая жара! Еще я заглянула к Тоне, чтобы расцеловать ее, и расписалась за тебя в книге отзывов на вернисаже у Питера». Она скажет все это, а я останусь глухим, слепым, не способным что-либо понять, по-настоящему понять то, что произошло за эти несколько часов в остающейся для меня загадкой жизни тех существ, применительно к которым я опрометчиво употребляю притяжательные местоимения «мой», «моя», «мои», поскольку, как бы хорошо я ни знал галерею, где выставляется Питер, или магазин мужских рубашек на улице Кастильони, или квартиру Тони (вплоть до аромата ее духов, вплоть до раскатов ее смеха), ничто не сможет перевесить того абсолютного одиночества, в котором я в данный момент пребываю — в данный момент, то есть стоя между двумя маршами лестницы, когда над моей головой слышится разговор, — и будь я сейчас не один, будь рядом со мной хоть кто-нибудь, возможно, это спасло бы меня от страха, одолевающего меня из-за того, что нужно двигаться дальше, чтобы пережить этот день, пересечь эту пустыню, пройти по пути, где на каждом шагу меня подстерегает засада. Робер рассказал нам такую историю: в самом начале прошлого учебного года, когда жизнь его лицея еще не вошла в обычную колею и кругом царили разброд и шатания, на одном из уроков случилось вот что — учитель объяснял новый материал, и вдруг в классе раздалось странное мычание, оно шло непонятно откуда, потому что все ученики сидели с закрытыми ртами, гул все набирал и набирал силу и в конце концов перекрыл голос учителя: «Чтоб ты сдох, скотина… сдох… чтоб ты сдох, скотина». Эти слова еще долго бросали в лицо несчастному, столкнувшись с ним в коридоре, или во дворе, если он отваживался пройтись по нему, или на улице, если он не успевал вовремя перейти на другую сторону, это «чтоб ты сдох, скотина» довело его до того, что он уже не знал, куда бежать не только из лицея и из своей профессии, но и от себя самого, его выпотрошили, как потрошат кролика, и забыли, а он с совершенно расшатанными нервами, почти обезумевший, похожий на обломок корабля, выброшенный на берег, так и не понял, за что же стал жертвой этого идиотского «прикола». В иные дни мне отовсюду слышится ропот, выражающий ненависть и неприятие, ропот, характерный для мятежной толпы. Пробираясь сквозь людской поток, я слышу глухие ругательства, их пережевывают крепко сжатые рты, а равнодушные взгляды с невыносимым презрением припечатывают их мне прямо на лоб. Вот и сейчас, в эту самую минуту, мне кажется, что сверху, с того пятачка, откуда по нашему издательству расползаются все сплетни, до меня доносятся смешки и перешептывания. Может быть, они нашли конверт, где спрятаны письма Мари? Может быть, одна из них или курьер на велосипеде в том дальнем квартале только что… Или Луветта за моей спиной спелась с ними? Неужели она больше не станет прикрывать меня? Впрочем, это было бы совершенно справедливо. Я так грубо пренебрегаю ими всеми, так расчетливо обделяю их своим вниманием, жалею на них свое время, экономлю на каждом движении, которое могло бы потребовать от меня дополнительных усилий, так почему бы и им, в свою очередь, не отплатить мне той же монетой? Да, выпотрошить меня, как кролика. С чего бы им безропотно сносить мой ничего не выражающий взгляд, мое постоянное отсутствие? На подступах к моему логову вот-вот вспыхнет мятеж. И никакого Версаля, куда можно было бы бежать, и никакого добровольного отречения. Он входит в свой кабинет словно монарх, вступающий в мятежную столицу. Крошка Мажорель рассказывает о ценах на черешню лишь затем, чтобы усыпить его подозрения. Но им не удастся свалить меня таким манером. Я тоже буду сражаться, а еще лучше — сбегу. Я устрою вам новый Вареннский побег[7], но только без ареста и прочих штучек. Я уеду в эмиграцию, у меня будет моя собственная Армия принцев, будет ностальгия с тайными вздохами, закаты над озером, буйство красок на небе, по которому будут плыть облака, пригнанные ветром из Франции, и юная смешливая фаворитка будет слушать мои рассказы о моем Старом режиме: «Ты все знаешь, насмешница, о том, как я жил».