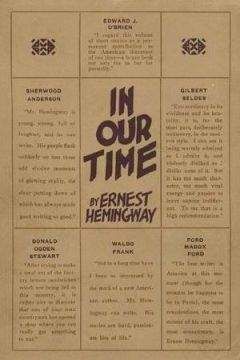Кристофер Бакли - Суматоха в Белом Доме
Санборн горевал не меньше меня.
– Держитесь, – сказал я. – Грядут перемены. Мистер Уитерс – это не я.
Естественно, я пожелал ему служить мистеру Уитерсу так же преданно, как он служил мне, но это было не совсем искренне.
Когда наступил последний день моей службы в прежнем качестве, Санборн и его сотрудники пришли попрощаться со мной. Они подарили мне большую деревянную ложку для салата, сделанную на Филиппинах, на которой поставили свои подписи. Мне изменял голос, когда я произносил благодарственную речь.
Несмотря на добрые чувства, которые я испытал из-за такого проявления преданности и уважения, мне было не по себе. Тридцать семь дней миновали с тех пор, как я в последний раз видел стены Овального кабинета. Не то чтобы мне уж очень требовалась власть, но, не имея возможности прийти к президенту, я не мог дать ему совет, в котором он, как я думал, отчаянно нуждался. Ллеланд и его новый союзник Эдельштейн контролировали не только доступ к президенту. Они получили власть над ним самим.
12
Бездна
Президент недоступен.
Из дневника. 12 августа 1991 годаАдминистрация не ладила с конгрессом, с прессой, с народом, но ни Фили, ни я не могли прорваться сквозь проволочное заграждение (фигурально говоря), поставленное Ллеландом и его приближенными вокруг Овального кабинета.
Второго августа президент объявил о своей злополучной инициативе «Территория ради прогресса», согласно которой Соединенные Штаты Америки отдают Мексике 180 000 квадратных миль, захваченных США во время войны с Мексикой. Не буду говорить о достоинствах – наверное, они были, – но, если по-честному, президенту зря сказали, что это может понравиться стране, а особенно штатам Техас, Нью-Мексико и Аризона, которые теряли свои земли. На этом деле были отпечатки пальцев Марвина – как же, на редкость смело, уникально, абсурдно.
Если поднятая в ответ на этот недолговечный проект шумиха вокруг Белого дома и имела положительные последствия, то лишь для союза Ллеланда с Эдельштейном. Тогда-то я впервые подумал о себе и Фили как о союзниках.
Внешняя политика была подвергнута критике тремя неделями позже, когда обстреляли Военно-морскую базу на Бермудах. Антиамериканские выступления становились обычным делом на этом острове. Но в тот же день на площадке для гольфа было совершено нападение на мистера Джорджа Мюррей-Триптона, мэра Сомерсета и владельца «эксплуататорского» концерна. Когда нашли его бесчувственное тело, то на тележке для клюшек прочитали: «американский прихлебатель» (sic).
Я поддерживал решение президента не посылать американских морских пехотинцев для наведения порядка, хотя моего мнения никто не спрашивал. Наступило время, как сказал президент, «трезвого расчета». Я посоветовал ему – в письменном виде – «повысить моральный статус нашего присутствия», приказав начальнику базы на Бермудах устроить прием и пригласить на него побольше бермудцев. Думаю, это смягчило бы ситуацию. К сожалению, мое письмо не было прочитано, потому что не дошло до президента. Ллеланд ввел новую практику: все бумаги, поступающие на имя президента, должны проходить через руки его гоплита[12] Фетлока.
Правые не теряли времени даром. Сенатор Найатт выступил с критикой политики Белого дома на Бермудах, назвав ее «неслыханным попустительством». Такие же идиотские реплики можно было услышать в обеих палатах конгресса. Для республиканцев наступило благодатное время. Моральное состояние Белого дома было хуже некуда. Эд Полларт из службы безопасности сообщил о сорокапроцентном увеличении поступающих смертельных угроз. Мне было очень жаль президента.
Легион приспешников Ллеланда взялся выставить происходившее в лучшем свете. Хал Джаспер, отвечавший за средства связи, должен был посылать президенту лживое, но жизнерадостное донесение, стоило какой-нибудь газетенке напечатать положительную статью. Когда «Пост» похвалила президента за гранты студентам, изучающим сельское хозяйство, Джаспер изготовил для президента донесение в духе Кремля, из которого следовало, что вся страна превозносила его как радетеля американского сельского хозяйства. Мне нравилось, когда президента оценивали по заслугам, но это уж слишком.
Однако еще ужаснее было введение цензуры на новости, ответственность за которую также несли Ллеланд с Эдельштейном. Узнав о дайджесте новостей, который президенту подавали каждое утро, я долго не мог прийти в себя.
Чуть позже, но в том же месяце, судя по социологическому опросу института Гэллопа, рейтинг президента упал до тридцати четырех процентов. Джаспер и это постарался представить как нечто позитивное, написав, что если в прошлом месяце рейтинг упал на один процент, то в этом намечается «уменьшение отрицательного нарастания». Я был в отчаянии. Мне хотелось с головой погрузиться в работу. Но работы-то как раз и не было.
Поскольку президенту я оказался не нужен, то пришлось сконцентрироваться на обязанностях управляющего делами первой леди. Мне это было по вкусу, так как я находил приятным проводить время в обществе миссис Такер. Утром она всегда выглядела свежей, разве что легкие тени под глазами свидетельствовали о недостатке сна.
Вместе мы придумали довольно много проектов. Ее, естественно, в первую очередь интересовало кино, и кинофестиваль Белого дома уже был не за горами. Прошло всего два месяца после визита принцессы Уэльской, в приготовлениях к которому я принимал самое живое участие. Мы также проводили собеседования с кандидатами на должность управляющего ее штатом и, кажется, подобрали одного, но были вынуждены от него отказаться после первых же проверок, так как у него в Севилье была связь с пикадором. Итак, мне приходилось проводить много времени в Восточном крыле. Конечно же, Восточное крыло – не Западное, но все же Белый дом.
Четырнадцатого августа в первый раз загорелась зеленая лампочка на моем телефоне. Наконец-то! Звонил президент. У меня задрожали руки. Прямо как в старые времена.
– Слушаю, господин президент.
– Мистер Вадлоу? – спросил незнакомый голос.
– Да.
– Говорят из БСБД (Бюро связи Белого дома). Извините, что беспокою вас. Мы проверяем президентские линии. У вас нет жалоб на прямую связь?
– Нет, – ответил я и положил трубку.
На той же неделе Джоан предложила мне вернуться в Бойсе. Искушение было велико. В нашей семье не все шло гладко. Герба младшего нашли в нежелательной компании подростков, одурманивавших себя каким-то газом. Маленькая Джоан росла угрюмой, она находилась под наблюдением дерматолога, который пичкал ее антибиотиками. А старшая Джоан – молодчина – бодрилась, но и ее измучил опоясывающий лишай.
Мне пришлось задать себе нелегкие вопросы: порядочно ли я поступаю, подвергая семью такого рода испытаниям? С другой стороны, мог ли я по собственному желанию уйти с государственной службы? Один Бог знает, сколько часов я провел в размышлениях, пытаясь найти ответ. В одном, правда, у меня не было сомнений: чтобы склонить чувства и разум президента Соединенных Штатов Америки к благу, придется еще побороться. Однако Вашингтон не место для женщин и детей. И вот как-то утром за завтраком я сообщил Джоан о своем решении. Она и дети возвращаются в Бойсе. Я остаюсь и работаю до конца, то есть делаю, что должен делать. Джоан и слышать об этом не захотела.
– Герберт, мое место рядом с тобой, – сказала она. – И больше не будем об этом говорить.
Вот это женщина!
Через несколько дней мне позвонил Пол Слански из «Нью-Йорк таймс» с просьбой об интервью. Я попытался отказаться, но делать все равно было нечего.
– Мои источники сообщают, что вскоре вы окончательно переберетесь в Восточное крыло.
– Слухи. Мне и здесь хватает работы.
– Если говорить честно, мистер Вадлоу, то я слышал совсем другое.
– Да?
– Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались последние несколько месяцев.
– Я бы с удовольствием, мистер Слански, но, увы, очень занят. Через пару минут должен быть в Овальном кабинете.
Слански отреагировал моментально.
– Но президент в Орландо беседует с баптистами.
Меня загнали в ловушку.
– Я отлично знаю, мистер Слански, где сейчас президент. Это моя работа – знать, где находится президент. А теперь прошу меня извинить…
Должен признать, общение с прессой не мой конек. После того как я опростоволосился, изнутри меня стали разъедать злоба и отчаяние. Столько лет вместе. Предвыборная кампания… И до чего дойти? Ну уж нет, клянусь небом, Герберт Вадлоу приехал в Вашингтон не для того, чтобы объяснять репортерам, почему он сидит без дела.
Я знал, как мне поступить. Я опять стал смелым, даже безрассудным. Наверное, в будущем историк назовет это актом отчаяния.