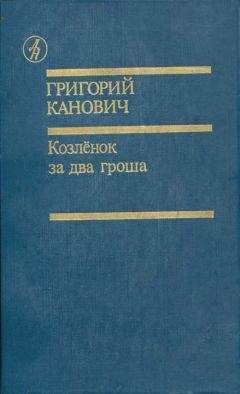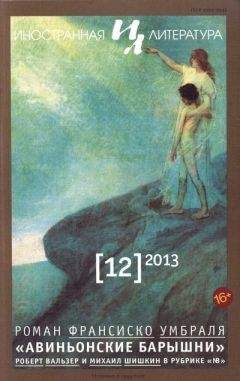Григорий Канович - Очарованье сатаны
– Вот! – с неуместной торжественностью сказал реб Гедалье и протянул пожелтевший листок Томкусу. – Благодарность за верную службу. И подпись майора Витаутаса Кубилюса – командира третьего пехотного полка.
Бывший подмастерье долго шарил по листочку взглядом, пытаясь удостовериться в подлинности подписи, и громко, скорее всего для
Казимираса, прочитал:
– Рядовой Банквечер Гедалье, сын Бенциона… Участвовал в восемнадцатом году в боях за независимость Литвы. Ого! В боях за независимость! – Томкус причмокнул языком, повертел в руке бумагу и протянул ее Рейзл. – Был ранен… Чего ж вы, хозяин, о своих подвигах столько лет молчали?
– А зачем было говорить? Рана давно зажила, Литва развелась с
Россией и стала не Северо-Западным краем, а самостоятельным государством, и мы с Пниной с Божьей помощью переехали на жительство в Мишкине, где в первый же день я продел нитку в иголку…
– Что было, то было, – с вялым и бесплодным сочувствием процедил
Томкус. – Но мы должны подчиниться приказу начальника нашего штаба
Тарайлы.
– Что я слышу? Начальник штаба Тарайла?! Ну кто, Рейзеле, был прав?
– обратился реб Гедалье к дочери. – Господин Тадас Тарайла все же вернулся.
– Вернулся, вернулся, – закивал Томкус.
– Мы же с тобой ему двубортный костюм сшили. Я тебя еще к
Амстердамскому за пуговицами посылал. Забыл?
– Как же, как же… Помню. Большие, серые, в цветных разводах.
– Когда пришли Советы, господин Тарайла куда-то внезапно исчез. А готовый костюм остался висеть в шкафу…
– Но я, хозяин, очень сомневаюсь, что господин Тарайла сможет вам чем-нибудь помочь.
– А я, Юозукас, не на его помощь рассчитываю, а на твою, – с достоинством произнес Банквечер.
– На мою? – Томкус крякнул от удивления.
– Юозапас! Ну сколько можно попусту болтать? – озлился Казимирас и с мстительным наслаждением снова задымил трофейным советским “Беломором”.
Реб Гедалье бросился к шкафу, схватил висевший на плечиках костюм и понес к Томкусу.
– Я его все время как зеницу ока берег: и нафталином пересыпал, и проветривал, и заново утюжил. Почти полтора года он провисел взаперти и всё-таки хозяина дождался. Сделай, Юозукас, одолжение, передай его господину Тарайле.
– Это всегда можно, – пообещал Юозас. – А пока… пусть еще пока потомится у вас в шкафу. Как только все образуется, сразу и заскочу за ним. Ведь с сегодняшнего дня ключики от вашего дома будут позвякивать у меня на поясе.
– Понимаю, понимаю, – с бессмысленным упорством повторял Банквечер, ни на кого не поднимая глаз.
– Ну вроде бы и договорились, – сказал Томкус и к радости своего соратника добавил: – А теперь, хозяин, в путь. Брать с собой ничего не надо – ни из вещей, ни из еды. На дворе в разгаре лето. Не замерзнете. И от голода, даю вам честное слово, не умрете…
– А иголку с нитками и наперсток можно с собой взять? Как давным-давно сказал мне один замечательный портной и умный человек:
“Пока можно шить, можно жить”.
– В синагогу с иголкой, ниткой и наперстком? – опешил подмастерье
Юозас. – В синагоге не штаны латают, а грехи отмаливают и душу спасают.
– Я вроде бы уже тебе не раз говорил, что иголку, моток ниток и наперсток я бы с собой даже в могилу взял…
– Папа! – закричала Рейзл. – Замолчи! Сейчас же замолчи! Не смей перед ними унижаться, ни о чем их не проси! Они тебя все равно не слышат. Дьявол им уши заткнул.
– Ай-я-яй, дьявол уши заткнул! А муженьку твоему Арону он их не затыкал, когда тот людей арестовывал? – Томкус переглянулся с
Казимирасом и, поймав его равнодушный, ускользающий, как дымок
“Беломора”, взгляд, бросил Банквечеру: – Раз уж вам, хозяин, так хочется, возьмите с собой и нитки, и иголку, и наперсток.
– А еще одну малюсенькую просьбу можно? Последнюю. Сказать пару слов…
– Кому?
– Ей. – И Банквечер кивнул в сторону “Зингера”.
– Он что, Юозапас, нарочно дурачит нас? – возмутился неумолимый
Казимирас.
– Не горячись, Казимирас, мы же не звери, а люди. Почему бы старого человека не уважить? Я за этой машинкой многому научился. Пусть скажет пару слов, – разрешил Юозас. – Только пару, хозяин, не больше.
Банквечер сел на стул, упер старые, больные ноги в педаль, но принялся не строчить как обычно, а что-то сбивчиво и невнятно шептать своей железной лошадке, перескакивая через годы и города, через перевороты и смуты, через свои невосполнимые утраты и неизжитые сомнения. Реб Гедалье беззвучно благодарил ее за то, что она столько лет безропотно служила ему верой и правдой, что вместе с ним успела состариться или, как он, ее погонщик, шутил, заржаветь; он просил у нее прощения за все свои капризы и причуды, за то, что нещадно изнурял и ее, и самого себя, и, конечно, за то, что Господь
Бог отказал ему в великой милости испустить дух не на краю безымянного рва, а рядом с “Зингером” – своим утешителем и кормильцем.
– Прощай, – сказал он чуть слышно и, припав к крупу своей верной и непривередливой лошадки, накрыл ее, словно теплой попоной, свалявшимися седыми космами.
Только бы он не заплакал при них, подумала Рейзл, и вслух промолвила:
– Хватит. Вставай.
Томкус и Казимирас погнали ребе Гедалье и схоронившуюся в молчании, как в вырытом окопе, Рейзл с обжитой ими Рыбацкой улицы к синагоге.
Редкие зеваки провожали их с недобрым, дотлевающим любопытством – евреи, изгнанные из своих жилищ и бредущие под конвоем, уже никого в родном местечке не удивляли.
Рейзл держала ребе Гедалье как слепца под руку; он и вправду перед собой ничего, кроме “Зингера”, не видел и шел по булыжникам, смешно подпрыгивая.
Над почтой на ласковом летнем ветру снова развевался старый трехцветный флаг.
Высокий парень со светлыми, ангельскими кудрями, стоя на лестнице, большим кузнечным молотком задорно скалывал с опустевших домов многолетние жестяные вывески. На щербатом тротуаре уже валялись
“Хацкель Брегман. Колониальные товары” и “Парикмахер Наум Коваль”,
“Амстердамский и сыновья” и “Хаим Фридман. Свежее мясо”. Голодные еврейские кошки, ставшие в одночасье бездомными и беспризорными, разочарованно обнюхивали обломки потускневшей жести и отворачивали от нее привередливые носы.
Вдалеке, за непроницаемой завесой юодгиряйской пущи, ровно и неутомимо строчил невидимый пулемет, пули которого, должно быть, догоняли отставших от своих частей солдат отступавшей в беспорядке по литовским проселкам и большакам непобедимой Красной Армии…
– Строчит, как наш “Зингер”, – сказал Банквечер и споткнулся о камень.
– Не разговаривай, папа, зазеваешься и, чего доброго, ноги сломаешь,
– одернула отца Рейзл. – Этого нам только не хватало…
– А зачем мне, доченька, сейчас ноги? Зачем? – вопрошал реб Гедалье.
Его вопрос, как и все еврейские вопросы, был обращен скорее к
Господу Богу, чем к дочери Рейзл, но, видно, в тот июньский день сорок первого года Всевышнего как назло в Мишкине не было, и старому ребе Гедалье никто толком не мог ответить.
ЧЕСЛАВАС
Как только в окрестностях Юодгиряя утихла бомбежка и небеса над хутором Ломсаргиса, изнасилованные немецкими “Мессершмитами”, от края до края затянуло теплым войлоком летних грозовых облаков, воспрявший духом Чеславас, не уповая на милость Господа, управляющего всеми засухами и всеми ливнями, запряг в новую, незадолго до войны купленную телегу свою любимую вороную лошадь и с чувством победителя, вновь обретшего право на землю, отнятую
Советами Бог весть за какие грехи, отправился на свой луг, чтобы загодя свезти под надежную крышу сеновала драгоценное, уже подсохшее на щедром июньском солнцепеке добро. С той далекой поры, когда отец-батрак впервые взял его, мальца, на косовицу, Чеславасу навсегда врезалось в память это удивительное, пьянящее благовоние, исходившее от сохнущего сена и чем-то напоминавшее густой и устойчивый запах крепкой домашней наливки, настоянной на смеси из семи луговых трав и семи цветков. Ему уже тогда доставляло удовольствие следить за хитроумными передвижениями жучков, изгнанных с обжитых мест и лишившихся из-за косьбы своих сокровенных стежек, тайных ущельиц и укрытий; нравилось часами наблюдать за бесконечными цирковыми прыжками отважных кузнечиков и слушать усыпляющее жужжанье пчел, собиравших до позднего вечера с каждого лютика и с каждой ромашки свою сладостную дань.
Такое же наслаждение испытывал он и позднее, когда каждое лето батрачил на крепких хозяев и когда решился взять в жены перезрелую
Пране, которая была старше его на пять лет, и получил от ее богатых родителей в приданое десять с лишним гектаров заболоченного счастья.
Еще до того, как немцы напали на русских, Чеславас выпрягал, бывало, свою любимицу, отпускал ее на волю, а сам, расстегнув на штанах толстый сыромятный ремень с медной пряжкой и распластав, как крылья, тяжелые батрацкие руки, укладывался на поверженное сено и под ржание лошадей, под пересвисты птиц и под колыбельные рулады пчел засыпал со счастливой, детской улыбкой на запекшихся губах. Тут ему, сделавшему плодородной свою землю и холившему ее, словно подкидыша, снились лучшие в жизни сны. В его полевых, как он их ласково называл, безмятежных и скоротечных снах, кроме него самого, людей никогда не было – не было ни стареющей быстрей, чем он, Пране; ни ее племянника Тадаса Тарайлы, время от времени гостившего в их усадьбе исключительно из-за славившегося на всю Литву меда Ломсаргиса; ни тихони Элишевы, посланной ему самим еврейским Богом в безвозмездную помощь; он и сам в них частенько отсутствовал, зато в этих странных и завораживающих сновидениях он никогда не чувствовал себя, как с людьми – отверженным и одиноким: гордые и печальные лошади, ничего не требуя взамен, понимали его и утешали; вспугнутые красавицы-куропатки, взлетая из гнезд, дружески махали ему крыльями с вышины; нездешние дивные цветы нашептывали то, чего он за всю свою жизнь не удостоился услышать ни от ксендза-настоятеля, ни от женщины; шнырявшие нищенки-мыши, то и дело торкавшиеся в его бока, жаловались на свою горькую долю и напоминали ему о его невеселом батрацком прошлом. Ломсаргису было с ними хорошо и покойно, он как бы и сам был из их породы, такая же Господня тварь – не лучше их и не хуже. Он мог с ними обо всем договориться без слов – жестом или взглядом, вздохом или стоном. Может, поэтому Чеславас всегда гневался на тех, кто его будил и разлучал с ними. Чаще всего за побудки доставалось его жене – Пране, которая всегда пополудни, посередине какого-нибудь захватывающего и неповторимого сна, приносила на луг крынку топленого молока и сваренные вкрутую яйца или завернутый в холстину нарезанный аккуратными ломтиками пахучий ржаной хлеб с такими же, аккуратно нарезанными кружками домашней колбасы и громко окликала его.