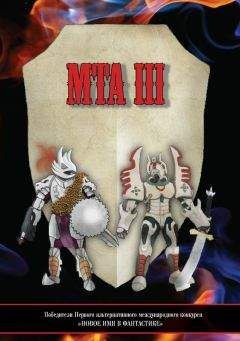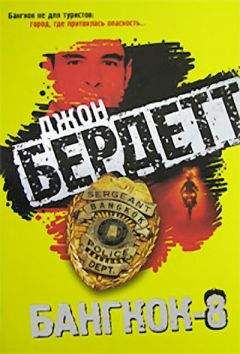Татьяна Мудрая - Геи и гейши
«Переутомляюсь. Это ж надо, какой сон связный и длинный, а всего полчаса как пересела на ветку. Благо, была бы я на кольце — там хоть час, хоть два катайся, и не заметишь, — подумала она. — Удивительная штука этот сабвей, в просторечии андерграунд! Тут на всех находит, по-моему».
Она вспомнила, как недели три подряд встречался ей по пути на работу некий меланхоличный субъект, что восседал на высоком ящике из-под метровского огнетушителя в самом низу эскалатора и медитировал, мутно и кротко взирая на непрерывный поток людей, низвергающийся сверху на перрон. И ничего — сходило ему: никто не забирал и даже не тревожил. Но то был взрослый, а значит — не из сферы ее профессионального интереса, поэтому она тут же выбросила эту неуставную картинку из головы.
Она выпрямилась и огляделась вокруг: что-то до боли знакомое приникло ко слуху.
Горизонт был стиснут рекламными идиотизмами, что совершенно открыто и по-хамски предлагали: «Мы обуем всю страну!» или рекомендовали для отмывания денег стиральную машину фирмы «Ардо» с боковой дверцей, исполненную в виде бронированного банковского сейфа. Люди в рваном ритме модного аудиодиска раскачивались на кожаных петлях, клевали носами на толстых сиденьях (неприятное занятие, однако необходимое: увидишь какую-нибудь старушку — поневоле из мягкого места выдернешься), валились кулем друг на друга — сидячие и стоячие в равной мере, — однако снова выпрямлялись. А между ними лавировал, как угорь, покачивая стройными бедрами и выкликая нечто звонким своим альтом, юный джентльмен голубых кровей. Ханский огонь светился сквозь белую кожу овального лица, горел в шалой синеве глаз под крутыми и тонкими дугами темных бровей — ресницы были такие же темные и густые, совсем девчачьи, и оттого казалось, что он черноглаз, — вздымался русым пламенем кудрей, мягких, тонких и от здешнего вечного сквозняка струящихся кверху. Лоб под этими кудрями был высок и крут до ненатуральности — лоб мыслителя, шута или обоих вместе взятых. Знак неверности, дурачества, мысленных завихрений и безудержного фиглярства лежал на нем с рождения, как клеймо, которым Бог метит своих шельм и блаженненьких: и недаром к пальцам юнца липли, то и дело отскакивая на своих резиновых веревочках и снова возвращаясь, полупрозрачные мячики с юркой зелено-красной спиралькой в глубине — то снова была одна из его проказ и каверз.
Он же сам был — его светлость Оливер Твист, или попросту Олька Твистер, тринадцатилетний торговец всяческой чепухой, благороднейший жулик и почетный член Екатеринозаводской шутовской гильдии, ради которого старшая инспекторша по делам несовершеннолетних который день подряд отирала бока, ради маскировки затянутые в модный прикид. Кличку свою получил подкидыш Оливер, до того по всей форме поименованный в соответствии с популярным в кримомалолетней среде романом Диккенса о безродном мальчишке, вовсе не в честь мистера Твистера — миллионера, другого любимца детворы, и даже не из-за дорогого мороженого в виде двуцветной завитульки с офигенным запахом, которым увлекался в ранней молодости, — а просто так, ради балды. Ну, Олька, положим, — это потому что хорош собой, точно девка, а «твистер» значит почти то же, что «дансер»: ведь старинные танцы у него выходили еще похлеще новейших. Но ведь когда все до тютельки объяснишь, неинтересно становится!
Помимо мячиков-прыгунцов — волоконная оптика разового пользования или ручное северное сияние — толкал Олька под Рождество канительные парики и бороды совершенно ни с чем не сообразного вида и цвета, а на Пасху — крашеные деревянные яички с аббревиатурой ХВ, крестом на одном боку и котячьей мордахой на другой: так сказать, кот воскресе. Приторговывал сомнительной яшмой или нефритом в виде шаров, что переливами оттенков напоминали неведомую планету — бурые очертания неоткрытых материков виднелись там на фоне застывших серых и зеленых океанов, но были и сплошные красноватые марсианские пустыни, и полностью водные, иссиня-черные обители. Сбывал Олька свои цветущие миры совсем задешево, а когда замечали ему: «Фальшивые, наверно, задаром достаются», — огрызался:
— Ну ясно, задаром. Сам нашел, сам открыл, сам отшлифовал. Никому платить не пришлось.
Впрочем, настоящей обиды в его голосе не слышалось — ни в коем разе. Даже когда громко возмущались той ловкостью, с какой он попутно обчищал со своих клиентов всё, что плохо лежит, висит или карман оттягивает. Странное дело — видеть-то видели, но за руку не ловили и ни с какой наличностью в кармане он не попадался. Так что хотя уверены были в нечистоте его помыслов и побуждений на все сто двадцать процентов, но доказать не могли.
Да и попрыгунчики его были делом не вполне законным: ярко горели и переливались они только в Олькиных умелых пальцах. И парики вносили в мысли неуместную путаницу, а иногда такую же неприличную ясность — хорошо даже, что линяли после недели интенсивного ношения. А вот его каменные поделки, как поговаривали, свое пагубное влияние могли оказать на владельца лет через десять, когда проявится их естественная радиоактивность и он вдруг заболеет «бродяжьей лихорадкой» — недугом похлеще знаменитого коровьего безумия.
Вообще-то об Ольке и слава такая ходила, что вор и прохиндей, попросту оттого, что уж больно легко и просто доставались ему земные блага — как пальчиком манил. Очи его — чистейшая небесная эмаль, сияющий голубой карбункул — были так непробиваемо чисты, что ныне покойный педагогический мэтр Макаренкович (по прозвищу Биг-Мак) не засомневался бы, что с таким глазами ни воровать, ни плутовать, ни химичить каким бы то ни было образом ну никак невозможно. И горько бы ошибся. Нет, разумеется, он был бы прав — ровно настолько, насколько бывают правы все мэтры и светила — только в частном случае Ольки его правота решительно дала бы сбой.
Ибо Олька имел в душе и ее двойном зеркале мир, мир нерушимый и незыблемый, никак не обусловленный его физическими деяниями. Юный Меркурий, проворный и неуловимый, как ртуть: кто-то из его воспитателей неосторожно поместил эту античную реминисценцию в бурливый Олькин мозг, там она укоренилась и вовсю пошла развиваться. Мальчик он был не по годам начитанный: еще до первого своего побега из детдома опустошил всю тамошнюю библиотеку, что досталась государственному учреждению от прежних, перемещенных хозяев. И вот выбрал он себе самых знатных воровских покровителей: сначала, естественно, Прометея, с чьей дерзкой у самого Зевеса покражи есть пошла вся земная цивилизация, и Диониса, у кого было некое приключение сначала с виноградной лозой, а позже — с морскими пиратами; потом — китайского бога воров, от которого (или прямого его потомка, что звался «Праздным Драконом») считал себя духовно и непорочно зачатым. В завершении списка стоял, разумеется, сам Меркурий, иначе Гермес, которого Олька уважал особо, разделяя это чувство со всем европейским Возрождением. Бог-покровитель воровства, торговли, музыки и прочих фокусов-покусов был, между прочим, сам деточка хоть куда — и буквально с пеленок: соперник самого Аполлона, патрон арфистов, иллюзионистов и престидижитаторов, который упас у Солнцеликого его коров и мудрейшую черепаху исхитрился выманить из ее панциря (и вовсе напрасно валят последнее на Терпандра), мудрец и алхимик Гермес Трисмегист (в Олькиной авторской транскрипции и интерпретации — Трижды Маг). Сниженной ипостасью Гермеса считал не в меру начитанный Олька знаменитого раблезианского Панурга: как и последний, бряцал иногда колдовским алхимическим золотом (во всяком случае, множеством звонкой мелочи) в карманах штанишек; золотом, что легко превращалось в сухие листья — в смысле того, что в чепуху, — ибо тратилось еще легче, чем приобреталось.
В минуту покоя и интеллектуального безделия любил Олька вот в таком настрое пофилософствовать о смысле своей пропащей жизни, но этот настрой долго не держался — на неделе у Ольки было не только семь мусульманских пятниц, но и семь христианских воскресений, после которых он возрождался со свежей зарей во всем своем великолепии: шут и трюкач, Божий скоморох, стрекозел-попрыгунчик, а также гроза и гордость детской комнаты полиции, куда иррегулярно попадал. От его трепа у комнаты дружно вяли уши, что на порядок снижало активность воспитательного воздействия. Его даже воспитать не очень желали — просто любили, но любовь сия была безответна, потому что ни силой, ни даже добром сделать с ним нельзя было ровным счетом ничего. Упечь назад в детдом — нельзя: на воле он ухитрился обзавестись какой-то дальней родственницей, которая никак не хотела подписать по форме ни документа о мере пресечения, ни уложения о взятии шалуна под опеку, однако и от опекунства не отказывалась напрочь, видимо, имея в пребывании Ольки на воле свой корыстный интерес. Засадить в тюрьму тем более было невозможно из-за малого Олькина возраста, в колонии же для несовершеннолетних его не могли удержать ни одна дверь и ни одно забранное решеткой окно. Вреда от кратковременных пребываний его под замком, к счастью, никакого не проистекло: вся криминальная грязь отскакивала, как от стенки горох. Олька умел так задурить головы принудперсоналу и более крутым в беззаконии товарищам по отсидке, что сам выходил из тамошних вод сухим и из злой утробы невинным, аки агнец из чрева материнского, а вот им любое поползновение на Олькину смазливую личность выходило боком.