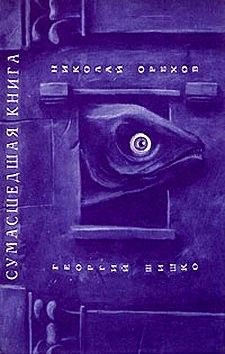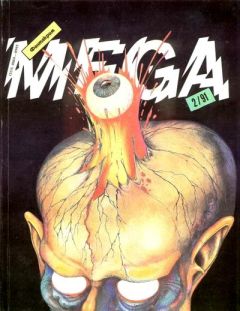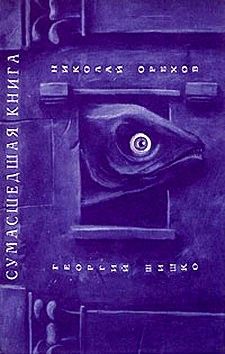Юрий Герт - Лабиринт
Это было неожиданно, все почувствовали какую-то неловкость. Сосновский заторопился. Когда он исчез в парадном, мы еще несколько минут стояли у его крыльца.
* * *
На другой день первой была лекция Сосновского. Его появления ждали с нетерпением и смутной тревогой: вдруг окажется, что в нем что-то переменилось, и мы увидим уже не того Сосновского, к которому привыкли?.. Напрасно. Вошел он, как всегда, едва отзвенел звонок, вошел своей быстрой, размашистой походкой, весело поздоровался — на этот раз ему ответили как-то особенно дружно — и, не тратя ни минуты, начал с того места, которым оборвал прошлую лекцию.
Он говорил о Годунове, о Самозванце, о декабристах, о Юродивом, о могучем и юном народе, который разгромил полчища Наполеона, о Пушкине и его несравненном чутье истории... Но я слушал Сосновского невнимательно, в голове камнем лежала фраза, которой он сегодня начал лекцию: «Народ безмолвствует...» Не в этих ли двух словах — ключ к великой трагедии»?..
А в нем все было, как прежде: чисто выбритое лицо, светлый лоб с высокими залысинами, спокойный, обращенный внутрь взгляд...
Перед звонком Сосновский спросил, почему отсутствует Иноземцева. Варя ответила, что Маша больна.
— Ничего особенного,— сказала она мне,— просто с утра ей нездоровилось, вот и все.
Следующей была лекция Гошина. Я спустился вниз и и прошел к раздевалке. Перед высоким узким зеркалом стоял Жабрин. Он расчесывал свои длинные поповские волосы, не столько расчесывал, сколько разглядывал мелькавшие в наклонной плоскости зеркала ножки девчонок, пробегавших по вестибюлю.
— Цветник,— сказал он мне, подталкивая плечом и блудливо подмигивая.— Кстати, где мне найти товарища Гошина?
— По коридору и налево,— сказал я, отправляя его туда, где висела табличка «Туалет».
На улице медленно кружился снег, было тихо и грустно, как всегда во время снегопада. Серенькое, сиротское небо опустилось на город, в нем утонуло солнце, убогие домишки сонно смотрят на дорогу, снег, снег, снег на крышах, на заборах, на спине лошаденки, уныло тянущей прикрытые кожухом сани... Кажется, он всегда падал, всегда будет падать,— снег, снег, больше ничего нет, кроме снега...
А Маша — как зеленая травинка,живая травинка, неведомо как занесенная сюда с заливного луга. Она радостно бросается мне навстречу, руки у нее горячие и маленькие, обе умещаются в одну мою ладонь.
— Как хорошо, что ты пришел! Никого нет, и так пусто, так пусто...
Белые, свежие покрывала на кроватях, полочки с книгами, на тумбочках — флакончики с пробными духами, коврики, открытки с киноартистами прикноплены к стене, и васнецовская «Аленушка», вырезанная из журнала,— наверное, под нею и спит Маша.
Я впервые вижу ее в домашних туфлях на босу ногу, в доверчиво распахнувшем ворот зеленом халатике, но мне кажется, что я видел ее именно такой и раньше, не знаю где, не знаю когда, много раз.
— Как хорошо, что ты догадался — и пришел, Клим!
И вот мы сидим у стола, па нем белая скатерка, и
Машина рука — ремешок от часов подчеркивает ее тонкость и хрупкость.
— Ничего особенного... Просто вчера, после всего, мы еще долго ходили с девочками, может быть — простудилась, ночью был жар, Варька с Наташкой говорят, болтала какую-то чепуху...
— Тебе нужно лежать...
— Я уже наглоталась всякой ерунды, все хорошо, все отлично. Клим, послушай, что я расскажу. Я отправилась
утром в поликлинику за освобождением, а там стоит парень, рослый такой; и глаза у него — тупые и наглые, он требует больничный лист и говорит: «Вы бросьте свои штучки... Мы про ваши штучки в газетах уже читали.» А врач — такая старая, седая вся, я вижу, как она объясняет ему, объясняет — вежливо объясняет, и вдруг как разревусь... Господи, Клим, ну скажи, что происходит. И вокруг — люди, и все молчат! И я ему говорю: «Уходите, уходите сейчас же!» — А он мне: «А тебе-то что?» И все молчат... Клим, милый, ну скажи, ты можешь мне ответить, что такое случилось? И это вчерашнее. Ведь Сосновскому уже пришлось уйти из одного института, теперь — что с ним будет?.. Да, надо быть бдительными, Там, в Москве... Это ужасно. Столько лет — и никто ничего не знал!.. Но теперь — что я знаю? Где свои? Где враги?.. Я ничего не вижу, Клим, ничего не понимаю, ничего!..
— У тебя температура,— сказал я,— У тебя жар. Вот я отвернусь, а ты ляжешь в постель. Хочешь?
— Ты всегда говоришь со мной, как с маленькой. «Ляг в постель и прими кальцекс...» Какие вы все злые, какие лживые, нечестные! И ты тоже, и ты как другие! Ты что-то все время от меня скрываешь!
Она бросилась на постель, на белое, не снятое покрывало, и заплакала. Она лежала, обхватив руками подушку, и плакала, свернувшись клубочком,— живая, смятая зеленая травинка. А за окном, медленно кружась, падал снег:
— Хорошо,— сказал я,— только сначала все-таки выпей кальцекс. Где у тебя кальцекс? И успокойся.
Я дал ей таблетку, налил из графина воды, она выпила, притихла, хотела встать, но я сказал: «Лежи» и пододвинул стул к ее изголовью.
Она смотрела на меня напряженно и ожидающе, широко распахнув глаза, как будто ждала чуда,— смотрела, нетерпеливо приоткрыв роте влажно блестевшими полукружиями ровных зубов.
Мой голос был сух, бесцветен, я слушал себя, как чужого.
— Когда мне было семь, арестовали отца. В семнадцать я узнал — он был ни в чем не виновен. Сказал мне это капитан, который раньше вел его дело. Ему не было смысла врать: через десять минут после того, как мы расстались, он застрелился...
По коридору тяжело заскрипели чьи-то шаги. Маша испуганно вскочила и щелкнула ключом.
Зачем?— сказал я,— Мне все чаще хочется, чтобы это случилось и со мной. Тогда все по крайней мере будет проще.
Она протестующе сдавила мои пальцы. Мы сидели друг против друга, колено в колено, и она молчала, все крепче сжимая в руках мои пальцы, пока я говорил.
Я все время убеждал себя, что мой отец — враг. Я сам себе наматывал на глаза повязку и старался затянуть ее потуже. По-твоему, страшно, когда ничего не видишь. Наоборот, это спокойнее. Куда спокойнее — всему верить и ничего не знать. Я и был таким — слепым, блаженным, идиотом — как хочешь,— пока не понял кое-чего. Тогда все разлетелось вдребезги, ко всем чертям, Когда нибудь я расскажу тебе о нем, покажу его письма. Он был человеком. Понимаешь — просто человеком, но — человеком! Не улиткой, не червяком, не гнидой! Вот и вся его вина. У нас в школе случилась история, из-за нее я и познакомился с тем следователем. Один мой друг тогда сказал: какой смысл бороться с подлецами, что-то пытаться им доказать? Какой смысл? Я считал его изменником, предателем. А он просто был умнее меня. В самом деле, какой смысл?.. Димкина мать возит из города хлеб в деревню, а Сизионову на банкетах посыпают плешь розами. В школе воспитывают покорных болванов, и если мы пытаемся выступить против... Сегодня в институт явился Жабрин. Он разыскивает Гошина,— наверное неспроста. И канитель с Сосновским еще только начинается, это я чую, но — что мы можем — ты, я?.. Сидеть в воде и дышать через тростинку?..
— Разве это выход?..— тихо сказала она.
— А тебе известен другой?
— Надо во что-то верить...
Во мне поднималось отчаяние. Я перевел взгляд с Maши на «Аленушку» — положив голову на колени, она грустно сидела над черной водой. Какой смысл объяснять Аленушке теорию относительности?..
— Я знаю, что стакан — это стакан, в нем — вода, Н2О, за окном — слег, а над городом — небо. Впрочем, небо — чушь, небо — слово, звук, неба нет, есть воздух, азот, кислород, углекислый газ. И чем выше, тем холоднее. Вот что я знаю и во что верю.
— И... только?— каким-то поблекшим, пустым голосом спросила она,
— Нет,— сказал я.— И еще я знаю, что ты сидишь
рядом, и у тебя золотые волосы, тонкие руки, самые удивительные в мире глаза.
— Ты шутишь...
Она ответила чуть слышно, одними губами. Не знаю поняла ли она смысл моих слов, но в ее померкших, затуманенных болью зрачках не было ничего, кроме пронзительного сострадания ко мне.
— Клим,— вырвалось у нее,— но ведь так... Ведь так нельзя жить!..
— Можно,— сказал я.— У каждого — своя тростинка. Зеленая тростинка. У меня — ты.
Я прижал к губам ее руку, прохладная, шелковистая кожа коснулась моих щек. Полем и лугом пахли ее волосы, лугом и свежим сеном, казалось мне.
Она подалась вперед, порывистым, безотчетным движением всего тела, и в том, как прижалась, приникла она ко мне, крепко обхватила руками мои плечи, были и любовь, и жалость, и наивное, самоотверженное, готовое на все желание любой ценой, и хоть на миг укрыть, защитить меня от чего-то.
Но я грубо расцепил ее пальцы и отошел к окну.
В дверь постучали. Потом еще раз, сильнее. Я открыл. На пороге стояли девочки из Машиной комнаты, среди них — Наташа и Варя.