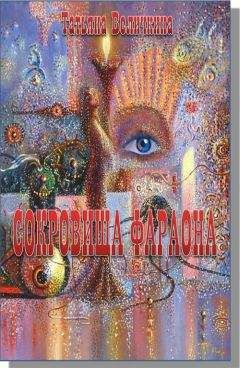Жан Эшноз - Я ухожу
«Это я, — говорит Палтус, — все в ажуре». — «Ты уверен, что тебя никто не видел?» — беспокоится Баумгартнер. — «Еще чего! — отвечает Палтус. — Там, в заднем помещении, ни живой души. Да и в самой лавочке практически никого. Сдается мне, на современном искусстве не шибко-то заработаешь!» — «Молчи, кретин! — обрывает его Баумгартнер. — Ну, так что? Где сейчас „материал“?» — «На холоде, как и велено, — говорит Палтус. — А машинка стоит себе в боксе, который вы сняли, рядом со мной. Что дальше делать будем?» — «Завтра встречаемся в Шарантоне, — отвечает Баумгартнер. — Ты помнишь адрес?»
21
А Феррер в это время все еще сидит на солнышке с бокалом пива — сперва с одним, потом со вторым — и хотя он не покинул этот квартал на левом берегу, зато сменил питейное заведение. Теперь он расположился на перекрестке близ станции «Одеон», который, в общем-то, нельзя назвать идеальным местом отдыха, даром что всегда находятся люди, готовые променять свой покой на стаканчик спиртного: перекресток шумный, суматошный, сплошь забитый машинами и светофорами; кроме того, тут вечно гуляет холодный сквозняк с улицы Дантона. Однако летом, когда Париж слегка пустеет, на террасах кафе можно кое-как посидеть, красные огни светофоров мигают не так часто, машины гудят не так громко, и на оба входа станции «Одеон» открывается чудесный вид. Люди редкими стайками спускаются в метро или выходят оттуда, и Феррер разглядывает их, интересуясь в основном женской половиной, которая — по крайней мере, количественно, — сильно превосходит другую, мужскую.
Эта женская половина, как он заметил, также может быть разделена на две категории — тех, кто, почуяв на себе чужой взгляд, оборачивается при спуске в метро, и тех, кто, почуяв его, не оборачивается. Сам-то Феррер всегда оборачивается на женщин, пытаясь выяснить, к какой разновидности — оборотистых или не оборотистых — принадлежит данная особь. А выяснив, ведет себя соответственно обстановке, понимая, что бесполезно оборачиваться вторично на женщину, которая этого не делает.
Однако сегодня никто на него не оборачивается, и Феррер встает, чтобы идти домой. Поскольку свободных такси не видать — все едут с погашенными огоньками, — а погода располагает, не исключено, что он пойдет пешком. Это неблизко, но вполне реально, а ходьба, может быть, протрясет Ферреру мозги, еще слегка затуманенные долгим перелетом.
А заодно прояснит и его спутанные мысли о страховщике и торговце сейфами, которым нужно позвонить, о счете мастера по цоколям, с которым нужно поторговаться, о Мартынове, которого нужно опять слегка раскрутить ввиду того, что кроме него у Феррера сейчас не осталось известных художников, об освещении галереи, которое необходимо сменить для экспозиции северных сокровищ, и, наконец, о Соне — в самом деле, звонить ей или нет?
А тут еще город подбрасывает ему, по мере того, как он идет вперед, держа курс на Амстердамскую улицу и петляя по тротуарам между собачьими экскрементами, то субъекта в черных очках, что вытаскивает огромный барабан из белого «ровера», то девочку, во весь голос объявляющую матери, что при зрелом размышлении она выбрала фасон «трапеция», то двух молодых женщин, грызущихся меж собой из-за парковки машин на стоянке, откуда только что на полной скорости отъехал фургончик-рефрижератор.
Прибыв в галерею, Феррер вынужден сперва побеседовать с неким художником, который явился к нему по рекомендации Раджпутека и жаждет поделиться своими замыслами. Это молодой «артист-специалист-по-пластике», жизнерадостный и самоуверенный, у него куча друзей среди богемы, и проекты его так же банальны, как тысячи других. На сей раз вместо того чтобы вешать картины на стену, художник предлагает выжечь кислотой на этой самой стене местечко площадью 24x30 см и глубиной 25 мм. «Я выдвигаю идею, скажем так, отрицательного творчества, — возглашает художник. — Вместо того чтобы добавлять к толщине стены толщину картины, я, наоборот, вгрызаюсь в нее!» — «Да-да, очень интересно, — отвечает Феррер. — Но, видите ли, в данный момент я не работаю в этом направлении. Может быть, потолкуем об этом позже? Вот именно, несколько позже; оставьте мне свой каталог, я вам перезвоню». Отделавшись наконец от выжигателя стен, Феррер улаживает все прочие назревшие вопросы при содействии молодой женщины по имени Элизабет, которую он взял к себе на испытательный срок вместо Делаэ; эта особа анорексического вида явно кормится одними витаминами и работает временно, пока он не решит, нужна она или нет. Для начала он дает ей несколько мелких поручений.
Затем он садится на телефон и назначает встречу страховщику и торговцу сейфами; оба придут завтра. Еще раз изучает счет от мастера по цоколям, также звонит ему и обещает зайти на неделе. С Мартыновым поговорить лично не удается, он оставляет ему на автоответчике длинную речь, щедро оснащенную нотациями, восхвалениями и предостережениями, — короче говоря, выполняет священные обязанности галерейщика. Потом он долго обсуждает с Элизабет, как лучше установить освещение для выгодного показа северных экспонатов. Дабы яснее выразить свои мысли, Феррер предлагает сходить и принести сюда парочку этих предметов, чтобы более конкретно представить себе задачу: «Давайте-ка достанем, к примеру, кольчугу из моржовой кости и один из мамонтовых бивней, тогда вы сразу поймете, что я имею в виду, Элизабет». С этими словами он направляется в «ателье», отпирает его и… застывает на пороге: взломанная дверь шкафа зияет чернотой, внутри пусто. Да, сейчас явно не до того, чтобы размышлять — звонить Соне или нет.
22
Выставив два объемистых чемодана из студии, так тщательно прибранной, словно он собирался навсегда покинуть ее, Баумгартнер резко захлопнул за собой дверь. Подобно телефонному звонку или сигналу автоматического закрытия дверей в метро, этот тусклый сухой звук прозвучал на почти чистом «ля», которое сочувственно отозвалось в недрах «Бехштейна»; когда Баумгартнер удалился, призрак мажорного аккорда еще пятнадцать-двадцать секунд витал в студии перед тем как медленно затихнуть и бесследно растаять в воздухе.
Баумгартнер пересек бульвар Экзельманса и немного прошел вдоль Сены, затем свернул на улицу Шардон-Лагаша. В разгаре лета XVI округ казался еще более пустынным, чем обычно; улица Шардон-Лагаша в некоторых местах прямо-таки напоминала зону после атомного взрыва. На Версальском проспекте Баумгартнер вывел машину из огромного современного подземного гаража, снова направился к Сене и поехал вдоль линии скоростного метро, с которой свернул, не доезжая моста Сюлли. Очутившись на площади Бастилии, он взял направление на юго-восток, следуя по очень длинной Шарантонской улице до самого Шарантона. Таким образом, он пересек до диагонали весь XII округ, более людный в это время года, чем XVI, ибо здешнее население имело куда меньше возможностей уехать в отпуск, нежели тамошнее. На тротуарах виднелись главным образом представители третьего мира и третьего возраста, и те и другие крайне медлительные, одинокие и растерянные.
Добравшись до Шарантона, «фиат» юркнул направо, в тесную улочку, носившую имя не то Мольера, не то Моцарта, — Баумгартнер вечно забывал, кого именно из них двоих, но знал, что она пересекается с другой скоростной линией метро, ведущей к маленькой промзоне вдоль Сены. Здесь тянутся ряды складов, металлических гаражей и прочих помещений; на некоторых написаны — от руки или малярным пистолетом — названия фирм. Обозначенные на большом панно лозунгом «Гибкость на службе у Логистики», здесь и в самом деле имеются многочисленные складские помещения, сдающиеся внаем, площадью от двух до тысячи квадратных метров. Тут же расположены два-три вполне тихих заводика, работающих, судя по всему, в четверть силы, а также очистная станция, и все это находится по бокам шоссе, явно не имеющего названия.
Это место еще более пустынно, чем другие кварталы в летний период; кроме того, здесь тихо, почти как на кладбище: лишь изредка можно различить какие-то смутные звуки или отзвуки, неведомо откуда взявшиеся. Вероятно, в другое время года тут выгуливают собак две-три пожилые пары. Возможно также, что некоторые инструкторы автошколы заприметили это местечко и освоили его, ввиду полного отсутствия движения, чтобы обучить здесь, без всякого риска автокатастрофы, своих питомцев; иногда какой-нибудь велотурист, взвалив на плечо двухколесного друга, пересекает этот участок, направляясь к узкому мостику через Сену, ведущему в сторону Иври. С этого мостика видны другие многочисленные мосты, там и сям разбросанные по реке. Как раз в точке слияния Сены и Марны высится огромный торговый комплекс, а какой-то отважный китаец дерзнул возвести здесь же отель в маньчжурском стиле — на краю реки и разорения.
Но сегодня тут ничего и никого не видать. Только перед одним из складских боксов стоит фургончик-рефрижератор, и только Палтус сидит за рулем этого фургончика, оборудованного системой «Термо-Кинг». Баумгартнер поставил свой «фиат» параллельно фургончику и опустил стекло, не выходя, однако, из машины и предоставляя Палтусу выйти из своей. Что тот и делает, охая и сетуя на жару. Он обильно потеет, и это усугубляет его общий неприглядный вид: волосы слиплись в жирную взъерошенную массу, испарина проступает на дешевой рекламной майке, и без того заляпанной грязными пятнами, жирные струйки пота бороздят лицо, как предвестие морщин.