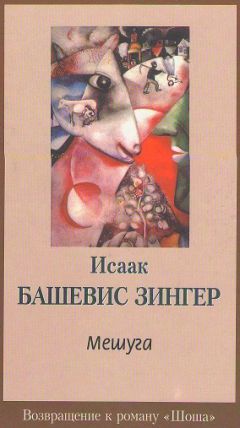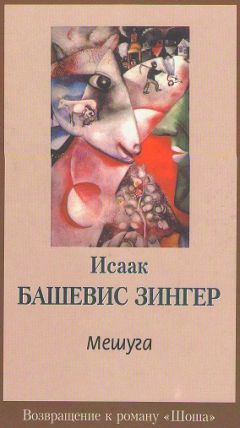Исаак Башевис Зингер - Мешуга
— Я и не боюсь.
— За тобой кто-то следит, тебя преследуют?
— Нет, но мне надо спрятаться на несколько дней.
— Мой дом — твой дом. Леон предан тебе даже больше, чем я. Почему, я никогда не узнаю. Это может звучать странно и дико, но я могу отречься от тебя, а он нет. Сегодня он называл тебя моим любовником. Иногда он говорит «твой второй муж». Он убедил себя, что когда-нибудь, когда он покинет нас, мы с тобой бросимся под свадебный балдахин.
— Он несомненно переживет меня.
— Я тоже так думаю. Что я могу сделать для тебя сейчас?
— Ничего. Мне нужен только отдых.
— Иди в комнату Франки и отдыхай. Я не стану больше задавать тебе вопросов.
— Стефа, ты самый лучший человек, кого я знаю.
— Лжец, негодяй!
— Я должен поцеловать тебя!
— Если должен, так должен.
Я удалился в комнату Франки, где было окно, выходящее в парк, и полно солнца. В комнате были кровать, письменный стол, книжные полки. Франка развесила по стенам фотографии кинозвезд, а также портреты своих дедушек, бабушек и тети, которая умерла молодой от того, что слишком много танцевала. На одной из стен я заметил фото молодого польского офицера на лошади — это был Марк, отец Франки.
В тот день было почти решено, что я перееду жить к Стефе и Леону. Несмотря на мои протесты, Стефа объявила, что она хочет добавить в комнату Франки софу и еще комод для моих книг, рукописей и выпусков моих романов, вырезанных из газеты. Леон собирался сделать мне подарок — новую пишущую машинку с еврейским шрифтом. При каждом удобном случае он повторял одно и то же: поскольку предопределено, что после его смерти я стану новым мужем Стефы, почему бы не начать сейчас?
— Вы будете избавлены от того, чтобы молить о моей смерти, — сказал Леон, и Стефа отпарировала:
— Если эти глупые фантазии доставляют тебе удовольствие, продолжай мечтать.
Свои еженедельные выступления на радио я заранее записывал на магнитофон, но в понедельник оказалось, что мне надо зайти в редакцию газеты. Я позвонил молодому человеку, который принимал почту и отвечал на телефонные звонки, и он сказал, что в мое отсутствие ко мне приходило множество людей, жаждавших советов. Он определил их количество сравнением с забитой покупателями булочной. Кроме того, в понедельник после завтрака я собирался зайти к себе на Семидесятую-стрит и забрать оставленные там рукописи. Я обещал Стефе отказаться от этой комнаты и вернуться к ним. Я сказал, что собираюсь платить за питание, но муж и жена ответили, что я их оскорбляю. Именно теперь, когда я стал зарабатывать приличные деньги и даже ухитрялся откладывать кое-какие суммы в банк, я почувствовал, что превращаюсь в нахлебника. Леон начал намекать, что он перепишет свое завещание, сделав меня и Стефу своими душеприказчиками. Я запротестовал, но он жестко ответил:
— Это мое завещание, а не Ваше.
Стефа проворчала:
— В восемьдесят лет он начинает вести себя, как ребенок.
День обещал быть жарким. У меня по-прежнему не было ни ключей, ни чековой книжки. Но я знал, что Мириам жива. В воскресенье я набрал ее номер и повесил трубку, услышав ее голос. Может быть, Стенли был с ней, сделав ее пленницей в квартире. Возможно, он заставил ее помириться с ним. Вновь я поклялся не иметь больше дела с Мириам — ни с ней, ни с Максом Абердамом, который, вероятно, был уже в Польше. Получить еще одну чековую книжку и новый ключ от индивидуального бокса в банке можно было бы с легкостью. Фортуна мне улыбалась — не успевал я потерять одну опору, поддерживающую мое существование, как появлялась другая. По правде говоря, это происходило исключительно потому, что я никогда не мог положить конец каким-либо отношениям. Что бы я ни начинал, кажется, это оставалось со мной навсегда, как в моем творчестве, так и в жизни.
Когда я подошел к меблированным комнатам на Семидесятой-стрит, наружные двери оказались открыты, по-видимому, для проветривания. Я уже начал подниматься по лестнице, когда услышал телефонный звонок в вестибюле. Я быстро сбежал вниз, схватил трубку и крикнул: «Алло!» На другом конце линии послышались невнятное бормотание и шорохи, как будто кто-то не мог решить, отвечать или нет. Наконец послышался слабый дрожащий голос Мириам: «Это я, б…дь».
Я сделал движение, чтобы повесить трубку, но она как будто прилипла к руке. Я не мог (и не хотел) говорить, и Мириам продолжила:
— Вы оставили в моей квартире ключи, а также чековую книжку и деньги. Подобно блуднице, которую посетил Иуда, я хочу вернуть «твою печать, твой браслет и твой посох».[95]
Мириам произнесла эти слова по-английски, но я понял, что они взяты из Пятикнижия. Прошло около сорока лет с тех пор, как я заучивал эти фразы в хедере меламеда[96] Йехиеля на Крохмальной[97] улице. Мириам, очевидно, нашла эту историю в Библии на английском языке. Я сказал:
— Тамара[98] притворялась проституткой, а ты такая и есть.
— А как же получилось, что такой святой человек, как Иуда, пошел к ней? — спросила Мириам.
— Мириам, сейчас не время обсуждать сказки из Пятикнижия.
— А когда время? Я хочу вернуть тебе твои вещи. Я, может быть, б…дь, но не воровка.
Снова мне захотелось повесить трубку, и опять какая-то сила воспрепятствовала этому. Я услышал собственные слова:
— Где ты?
— Около Бродвейского кафетерия, где мы были с тобой, — сказала Мириам. — Твои вещи со мной. Если ты стыдишься, что тебя увидят с потаскухой, могу принести их к тебе домой.
— Мириам, между нами все кончено.
— Понимаю, но я хочу возвратить твою собственность.
В ее голосе была мольба. В конце концов, я сказал:
— Жди меня в кафетерии.
— Хорошо. Я буду там через пять минут.
Повесив трубку, я сразу начал бормотать обет никогда, никогда, никогда больше не иметь никаких дел с этой проституткой.
Я вышел на улицу и в течение некоторого времени шел по направлению к Гудзонову проливу, в обратную сторону от кафетерия. Потом остановился и пошел назад. Самый факт, что Мириам позвонила в тот момент, когда я вошел в дом, означал, что она неоднократно звонила раньше. Еще мне пришло в голову, что Стенли может последовать за ней и убить нас обоих. И все же я обрадовался, что смогу вернуть ключи и чековую книжку без лишней волокиты. Я понимал, что пренебрегаю своей работой. Писатель, романы которого печатаются с продолжением, никогда не бывает свободен. Если он относится к своей работе серьезно, вся его жизнь связана с нею. Ему приходится постоянно выискивать повороты сюжета, неожиданные события, соответствующие тому, что Спиноза называл порядком вещей или порядком идей. Я уговаривал себя не торопиться. Пусть Мириам подождет. Однако мои ноги торопливо отмеряли шаги, как бы повинуясь собственной воле. Возможно, им не терпелось узнать, чем закончился утренний визит Стенли. Когда мне навстречу шел прохожий, я пытался уклониться, свернуть вправо, но ноги все же поворачивали налево, и мы почти сталкивались. Это повторялось несколько раз. Мы или исполняли что-то похожее на танец или загораживали друг другу дорогу. Добравшись до Восьмидесятой-стрит, на противоположном углу я увидел Мириам, ожидавшую, пока светофор переключится на зеленый.
Да, это была Мириам, но выглядела она по-другому. На ней было короткое красное платье и красные ботинки. Чулки тоже были красного цвета. Ее щеки были густо нарумянены, а глаза подведены синим и черным. В алых губах на конце длинного мундштука покачивалась сигарета. Я тотчас понял, что она сделала. Она вырядилась под варшавскую проститутку. Даже сигарета в длинном мундштуке была типичной для Варшавы. Все было заранее спланировано — и цитата из Пятикнижия, и этот маскарад. Я заметил прохожих, которые провожали ее глазами, пожимая плечами и улыбаясь. В голове у меня промелькнуло, что меня арестуют, если я пойду с ней. Светофор переключился, и я был готов перейти улицу. В этот момент с Семьдесят девятой-стрит выехал гигантский грузовик и загородил Мириам. Я был вынужден обогнуть это огромное, как дом, чудовище. Грузовик вдруг засигналил и рванулся в ближайшую боковую улицу, едва не сбив меня. Я почувствовал жар двигателя и запах бензина, когда он промчался мимо. Я шел навстречу своей гибели, потому что горел желанием встретиться с девкой, которая не говорит ни слова правды, дурачит меня, Макса, Стенли и черт знает кого еще. «Грязь! Разврат! Она совершенно запуталась в распутстве и обмане», — сказал я себе. И вновь поклялся, что сегодня я в последний раз увижу ее подлую рожу.
Мы сидели в кафетерии, но на этот раз наш столик был не у окна, а задвинут в угол. Несколько завсегдатаев с удивлением поглядывали на нас, но ни один не подошел к нам и не заговорил. Через некоторое время Мириам стерла с лица румяна и макияж. Мы пили кофе, и она говорила: