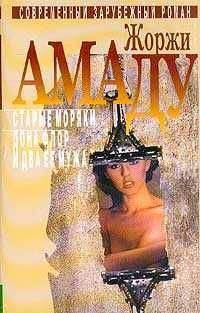Глеб Шульпяков - Книга Синана
«Я решила одолжить тебе на время свой галстук» – сказала торжественным тоном. «Можно?»
Я пожал плечами, поежился. Гайдар какой-то.
«Мне повязали этот галстук в Ташкенте» – она подняла мне воротник. «Мы приехали туда после землетрясения» – голос у нее дрожал, пальцы не слушались.
Я почувствовал, что краснею.
«Надеюсь, этот галстук ты не забудешь» – сложила на животе газету и бросила в корзину; постучала пальцем по карте: «Это здесь»
Галстук сидел неловко. Весь урок слова в учебнике прыгали перед глазами. Опять Ташкент, что за наваждение.
А после каникул она ушла из школы. Астма обострилась – говорили, это пыль от мела – и галстук остался со мной.
С той поры я ходил в нем постоянно. Вцепился как в талисман. Сам стирал, гладил, и даже сам подшил края. Когда пришло время комсомола, меня долго не принимали: неуды, поведение. И в конце концов я остался один, кто еще носил галстук в классе.
Тогда-то на уроке геометрии ко мне подвалили двое. Братья-близнецы, хулиганье. «Давай, снимай» – сунулся один и стал копошиться у подбородка. «Ну!» – толкнул другой в плечо.
Я оцепенел, оглох. Никогда не дрался, но тут вдруг почувствовал прилив ярости. Ясной и какой-то спокойной. Рядом на парте стоял эбонитовый конус. Эта сволочь еще возилась с тряпицей, когда я всадил ему конус в шею.
А потом еще раз, и еще.
Он взвизгнул и стал оседать, запрокинув голову – как будто за шиворот бросили снежок. Братан его отскочил и тоже заверещал. А я стоял, зажав конус в руке, и смотрел, как хрипит этот, первый.
Урок был сорван. Скорая помощь, скандал на всю школу. «Еще сантиметр и парню каюк» – говорил врач, накладывавший швы. Меня с матерью таскали к директору, в милицию. Потом к психологу. «Почему ты нанес три удара?» – допытывалась она. Я разводил руками: «Не знаю, что нашло». Мать плакала: «Как ты мог?»
«Отца на тебя нет».
Их родители собирались и дальше выяснять отношения, но подкатило лето и дело замялось. Осенью братья-близнецы свалили в училище.
Куда потом делся мой ташкентский галстук? А через несколько лет восточный город всплыл снова. Это случилось после первого курса, когда мы разъезжались на практику. Я стоял в деканате и, как тогда на уроке, смотрел на карту Евразии, где приткнулся неведомый, на странным образом предписанный город.
И я отправился в Ташкент – в город, где двадцать пять лет назад мой отец встретил другую женщину.
Обиды я не чувствовал. Любопытство – вот, что толкало меня в дорогу.
Ехал поездом и трое суток провел на верхней полке, во все глаза глядя на плоские как футбольное поле степи – и как неотвратимо окружают нас солончаки за Актюбинском.
Я лежал наверху и мир струился сквозь меня как магнитные волны. Чем дальше мы продвигались по пустыне, тем больше мне казалось, что это не полка, а люлька, где меня укачивает баснословное пространство, снимая слой за слоем все, что налипло.
Внизу за столиком сменялись казахи, татары, узбеки. Вечерами, когда жара отступала и солнце висело в купейном зеркале, в коридоре носили сушеную рыбу и кумыс в горшках, обмотанных шерстью. Мороженное в коробках, которое каким-то чудом не таяло в жарищу.
Новое и знакомое чувство возвращения росло во мне, и я был рад раствориться в нем. И люлька, и душный поезд со всеми тамбурами, и бескрайнее пространство, уводившее на восток за подбородок – все заполнилось этим безмятежным ощущением.
Все, думал я, в нем пребывает и свершается.
Тогда же, в поезде, у меня появилось новое имя. Цыганские дети, которые забирали у меня остатки ужина, переврали мое первое, окрестив по-своему.
Что означало это имя? и на каком языке произносилось?
«Галип» – так они меня называли.
53.
Чуть свет автобус бросил якорь в Кайсери. Широкая пустая площадь, солнце встало, но пока зябко. Пассажиры высыпали наружу, стали шумно вытаскивать пожитки. Вид у всех свежий, бодрый.
Цены в туалет упали вдвое – пять сотен против тысячи; провинция. После бессонной ночи картинка дрожит как на любительской съемке. Не умею спать в транспорте.
Пока умывался, площадь опустела. И люди, и автобус исчезли, словно в воздухе растворились. Только одинокий турок у вокзальной витрины полирует машину.
Я бросил рюкзак на заднее сиденье; тронулись в гостиницу.
Улицы прямые, широкие, обсажены пыльными деревьями. Трех-четырех этажные дома с балконами. Смахивает на римский пригород. Все спят, хотя кое-где уже открыты лавки.
Суп кипит в чанах.
Под римлянами город назывался Кесария, здесь располагалась резиденция наместника. В средние века на базарной площади сходились караванные пути с востока на запад, и здешние купцы перекупали товар оптом, торгуясь зло, до победного.
Это про них сочинили, что нет хитрее купца, чем купец из Кайсери.
Потому что купец из Кайсери даже еврея перехитрит, переспорит.
Именно в этом городе жила родня Синана – те, кто перебрался из деревни. Сведений об этих людях не осталось. Говорили, что, пользуясь придворными связями, Синан помог племянникам со службой в столице. И что выхлопотал родичам охранные грамоты во время переселения крестьянской голытьбы на покоренный Родос.
Вот и все, что о них говорили.
Такси выкатилось на площадь. Над невзрачными домами, раскинув розовые крылья, поднималась здоровенная трехглавая гора Эрджияс – и вибрировала сквозь кубические километры воздуха.
На площади приткнулась мечеть: Куршунлу, Свинцовая. Купол как будто повторяет снежный силуэт горы. Год постройки 1585-й. Сам на площадку уже не ездил (в такую даль в его года). Брутальный куб гладких, без окон, стен. Сами стены толстые, скрывают устои. Высокий, в половину шара, купол. Демонстративная архаика, лапидарность. Древние сооружения процитированы намеренно. Поклон старым мастерам, их пропорциям. Радиус купола равен диагонали куба, куда проще.
Строил-то на их территории.
И гениальный штрих под занавес, итальянский портик.
Традиционная галерея, примыкающая к фасаду, обрамлена еще одной аркадой. Свет, пробиваясь сквозь листья и двойную колоннаду, покрывает мечеть тенями. Живой орнамент, никакой резьбы не нужно. Ветер колышет листья, картинка меняется каждую секунду.
Гостиница опять называлась «Учительской». Угловая комната, рамы деревянные, крашеные.
Я раскатал ковер, вытянулся на койке. С улицы послышался крик торговца.
Рубчатая ткань приятно холодила щеку.
Пару часов поспать – и дальше.
Куда?
Само как-нибудь образуется.
54.
Действительно, через два часа позвонили.
«Машина в деревню ждет у подъезда, спускайтесь».
Придавленный солнечным светом, на дворе плавился старый малиновый «Мерседес». Кожаные бежевые панели в полоску, щелястые двери. На зеркальце четки из янтаря.
Белозубый Таркан улыбается с портрета.
Водитель невозмутим как дервиш: смотрит на собственные ладони.
Я проверил фотоаппарат, диктофон. Можно ехать. Через пять минут город остался позади и машина вышла на проселочную дорогу. Вокруг пустыня, только гора со снежными шапками парит в окошке. Солнце в зените; свет падает отвесно; ни тени. Разбросанные по голому плато новостройки облиты солнцем как водой из душа. И мерцают в переливчатом воздухе.
Чем дальше мы удалялись от города, тем чаще попадались на равнине тупые карандаши древних могильников, десятый-одиннадцатый век. Дорога петляла среди крупных камней и глинистых всхолмий. На поворотах машина обгоняла редкие повозки, запряженные осликами.
Шофер махал им рукой, сигналил. Седоки в повозках что-то кричали – и исчезали на полуслове из вида.
Наконец, минут через двадцать, внизу, в коричневой впадине, открылось большое село. «Аирнас» – мелькнула табличка. Приехали. Одноэтажные домики (синий или красный цоколь) с пыльной зеленью во дворах. Коричневый минарет над крышами – раструбы громкоговорителей сверкают на солнце. Мостик через пересохшее русло, косые телеграфные столбы.
Я вылез из машины на площадь. Мимо прошаркала тетка с пластиковой бадьей. Куда теперь? Ни по-русски, ни по-английски водитель не говорил, но руками показывал: сюда.
Узкая улочка петляла меж каменных стен. Шофер впереди, оглядывается, зазывает. На углу высокий дом из белого известняка. Резные колонны, портик. Все чинно, чистенько.
«Мимар Синан, мимар Синан!» – ткнул пальцем в балкончик. Наверху, сунув пятерню в рот, стоял глазастый мальчонка.
55.
Во дворе у колодца три мужика в белых рубашках, что-то обсуждают. Шофер бросил им по-турецки – «журналиста, Моска» – и те заулыбались, стали жать руку.
«Курбан-бей?» – спросил я, глядя в их темные лица.
«Йок-йок!» – радостно закивали; стали показывать рукой на дорогу.
Из бумаг выходило, что пещеры открылись, когда под музей обновляли фундамент. Но расчистили их только теперь. Когда-то в пещерах ютились местные жители, но когда – пять сотен лет тому назад? пятнадцать? Курбан его знает.