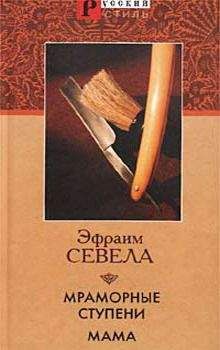Зигфрид Ленц - Минута молчания
Я повторял их, глядя на наше фото, и в тот вечер, когда сильный стук дождя ударил мне в окно, казалось, это были не капли, а крупинки, по стеклу барабанил дождь, не похожий на дождь: внизу стоял Георг Бизанц, вот он нагнулся, набрал полную горсть песка, чтобы швырнуть его мне в стекло; увидев мой силуэт, он тут же показал на себя и меня, и я сделал ему знак подняться наверх. Георг, любимый ученик. Он не стал тратить время на то, чтобы оглядываться в комнате, где я жил, он торопился сообщить мне, что только что узнал и что особенно касалось меня. Так как он носил тетради с нашими сочинениями к Стелле домой, он знал ее отца, Георг встретил его на берегу, там, где были свалены опознавательные морские знаки, особенно разговаривать им было не о чем, но он узнал следующее: это будут похороны в море. Оба, старый бортрадист и его дочь, обговорили все друг с другом задолго до этого, оба они выразили желание быть похороненными в море, так это теперь и случится. «Ты будешь при этом присутствовать?» — спросил он. «Да», — ответил я.
Контора захоронения в море находилась возле впадения маленькой речушки в море, обыкновенное кирпичное здание, без окон, дело вели там отец и сын, которые уже с утра облачались во все черное, а на лицах профессионально воцарялась вселенская печаль. Они тут же объявили, когда может состояться захоронение фрау Петерсен, они двигались вразвалку, и я ничего не мог с собой поделать, но на меня они производили впечатление двух пингвинов. Церемония состоится в пятницу с утра. На мой поспешный ответ, что я не являюсь родственником умершей, один из пингвинов заявил, соблюдая безупречную форму сожаления, что их лодка может взять на борт только ограниченное число участников траурной церемонии, потому что это плоскодонка, перестроенная десантная шлюпка, а так как уже подано много заявок — он так и сказал «заявок», — среди прочих от всего учительского состава гимназии, то свободных мест нет — он так и сказал: «свободных мест нет».
В пятницу дул слабый ветерок, небо было облачным, морских птиц тоже не было видно, над водяной пустыней — так мне представилось — простиралось вековое равнодушие. Мой отец разрешил нам с Фредериком взять наш буксир, Фредерик сел за руль Упорного, готовый, как всегда, держать дистанцию и не пересекать курса другого судна, и мы на малых скоростях двинулись вслед за бывшей десантной шлюпкой к месту захоронения, по траверзу к Птичьему острову. Я не знаю, кто определял место захоронения, но, когда мы его достигли, шлюпка остановилась, Фредерик тоже заглушил мотор, и оба судна стали испытывать килевую качку на серой, как шифер, поверхности воды, находясь на расстоянии вне слышимости голоса. «Возьми бинокль», — сказал Фредерик. Сквозь безупречно гравированные стекла бинокля я увидел нашего директора, узнал кое-кого из учителей и старого бортрадиста. В шлюпке лежали два венка и несколько букетов цветов, среди которых стояла урна. Рядом с ней, на парусиновом стуле, сидел тучный пастор. Он без труда нашел устойчивое место в шлюпке и распростер свои руки, очевидно, он благословил сначала всех присутствующих, а потом стал произносить поминальную молитву, не спуская глаз с урны, вероятно, он обращался непосредственно к Стелле, наверняка коротко упомянул этапы твоей жизни, подкрепляя свои слова кивком головы, так, словно не хотел допустить и тени сомнения в них, и, наконец, сделал то, чего ждал не только я: он обратился к твоему отцу. В этот момент все сняли головные уборы, протянули друг другу безвольно повисшие руки, плечи мягко опустились, я увидел, что наш воспитатель по искусству плачет. Стекла бинокля запотели. Я весь затрясся и потому ухватился за борт. Мне показалось, что наш буксир накренился. Возможно, Фредерик наблюдал за мной, он сказал озабоченно: «Сядь, мальчик», но бинокль у меня не забрал.
Старый бортрадист обхватил урну с великой осторожностью, он держал ее, крепко прижав к телу, потом понес на корму и по знаку пастора открыл ее, открыл и поднял над бортом. Я не поверил своим глазам, Стелла, это была тоненькая струйка пепла, отделившаяся от урны, ветер только слегка поднял струйку вверх и тут же прижал ее к воде. Вода очень быстро поглотила пепел, не осталось и следа, никакого доказательства, лишь угадывалось безмолвное исчезновение, азбука прощания. И хотя он стоял и стоял и неотрывно глядел на воду, но и для твоего отца не оставалось ничего другого, как взять венок, которому он не дал просто упасть в воду, он выбросил его далеко в море, с такой силой, которая удивила меня. Вслед за ним и остальные побросали букеты в воду, большей частью в связанном виде, наш учитель физкультуры и двое других учителей развязали цветы и пустили их по воде по одному вдоль борта, где их подхватило легкое течение, мне казалось, от них исходит свечение, пока они качались на подвижной воде. В этот момент я понял, что эти подхваченные течением цветы навечно станут частью моей беды, и я никогда не смогу забыть, с какой трогательностью символизировали они мою утрату.
Сомнений не было: цветы несло на Птичий остров, скоро они доплывут до редко посещаемого пляжа; я соберу их там, подумал я, и буду один приходить туда и охранять их, чтобы они не гнили как водоросли, которые вырвало из глубин беспокойное море, я отнесу цветы в хижину орнитолога, разложу их там и засушу, они навсегда останутся в том месте нашей общей памяти, все, что было, будет там и так останется. Я тоже обоснуюсь в хижине на каникулы и буду спать на лежанке из морской травы, во сне мы придвинемся друг к другу, Стелла, твоя грудь коснется моей спины, я повернусь к тебе и буду тебя гладить, все, что сохранила память, возвратится там вновь. А что ушло в прошлое, но все же было на самом деле, никуда не денется, и, снедаемый болью и неизбывным страхом, я буду пытаться найти то, что безвозвратно утрачено.
Когда лодка с участниками траурной церемонии двинулась в путь и медленно заскользила в направлении моста перед отелем У моря, я попросил Фредерика не сразу следовать за лодкой, а объехать сначала Птичий остров. Он удивленно посмотрел на меня, но сделал то, о чем я попросил его.
Я смотрел и не верил своим глазам: я видел Стеллу, она сидела на прибитом к берегу бревне, сидела в своем зеленом купальнике и курила, она, похоже, радовалась чему-то, возможно, тому, как я, по пояс в воде, пробирался к ней. При нарастающей неуверенности я придал сидящей черты твоего лица, Стелла, и, пока наш буксир огибал Птичий остров на небольшом расстоянии от берега, я представлял себе, как мы, взявшись за руки, ходим по берегу и вдруг осознаем под вязами, что у нас обоих есть тайное право на владение этим островом. Меня не интересовало, что думал про меня Фредерик, за косой, где спорили между собой морские птицы — этот вечный базар с разинутыми клювами и растопыренными крыльями, — Фредерик спросил меня, не хочу ли я сойти на берег; я отмахнулся и дал ему понять, что он может поворачивать домой, следовать за остальными участниками траурной церемонии, чья лодка уже причалила к мосту перед отелем У моря, и они уже покинули ее, я это видел в бинокль, и расселись в садике за столиками кафе.
Жизнь — как это, очевидно, и должно быть, уже взяла свое: кельнеры разносили по столикам напитки и закуски — прежде всего пиво, сосиски и фрикадельки с картофельным салатом, — заказы на порции фруктовых тортов гости еще не успели сделать. Я нашел свободное место за круглым столом, господин Куглер, наш воспитатель по искусству, уже сидел там, рядом с ним начальник порта Тордсен, кроме них я поприветствовал еще своего одноклассника Ханса Ханзена и кивнул какому-то незнакомому человеку с круглой головой. Его звали Пюшкерайт, в прошлом учитель, который вот уже много лет жил на пенсии, но по-прежнему поддерживал тесные отношения с нашей гимназией. Он преподавал историю. Как я узнал, этот Пюшкерайт был родом из Восточной Пруссии, из мазуров, говорящих на особом польском наречии; стоило мне произнести это слово, как все, кто его услышал, заулыбались, да я и сам улыбнулся, оно объясняло многое, однако звучало как-то ласково. За остальными столиками царило гнетущее молчание, и все обменивались друг с другом только взглядами, что соответствовало моменту, Пюшкерайт решил, что пришло время вспомнить о похоронах в его семействе, например, дедушки, жившего в скромном домике и умершего в полной гармонии с самим собой. После совместной заупокойной трапезы каждый, кто мог и был готов к этому, рассказывал о памятных событиях из жизни покойного, все говорили о его чистосердечности, упрямстве, радушном лукавстве, а также о его доброте и юморе. Про умершего было высказано столько подробностей из его жизни, что стало казаться, он присутствует на собственных поминках — некоторые его достопримечательности были уже положены к нему в гроб, стоявший в комнате, — и тут вдруг появился некий гениальный музыкант и заиграл на своей гармошке, призывая всех потанцевать. Начальник порта, привыкший, очевидно, мыслить в масштабах пространства, пожелал узнать, а было ли там вообще место для танцев, на что этот Пюшкерайт сказал: «Да, конечно, мы поставили гроб на попа, и места для танцев оказалось предостаточно». Он рассказывал истории, что называется, доисторического периода. Я был уверен, что старый бортрадист, сидевший за соседним столиком, все слышал и не одобрял эти разговоры, он встал и попросил минуточку внимания, а потом сказал ровным голосом: «Никаких разговоров, пожалуйста, здесь и никаких историй».