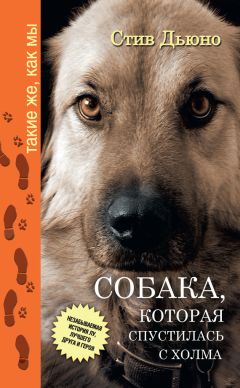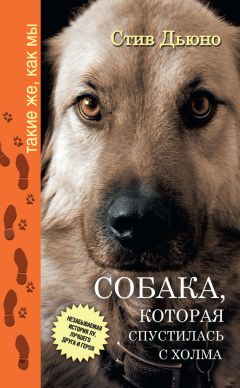Александр Терехов - Бабаев
Шах в ответ пробивал зачеты, отдельную комнату в общаге, приносил справки о моем остеохондрозе, чтобы по четвергам меня не ждали вечером на теории и практике печати, где профессор Гуревич полтора часа размеренным голосом рассказывал, что в газете бывает дядя, которого все называют редактором, а есть еще дядя – заведующий отделом, – я в это время на рукопашном бое поднимал ногу выше лба. Шах ходил к декану, объясняя прогулы. Шах водил к стоматологам, окулистам, дерматологам, кардиологам, подвозил на вокзал, ждал после экзаменов. Выслушивал все, помечая на бумажке, переспрашивал: «Все?», свалив голову набок, как птичка-очкарик, и задавал бронебойный вопрос: «Александр Михайлович, ваша мама гордится, что вы учитесь в Московском университете? Гордится. Ей будет приятно, если вы получите диплом? Будет. Доучитесь для мамы».
Шах верил: человеческое желание сильнее атомной бомбы. Это его делало похожим на Ленина (сам Шах считал, что внешне напоминает Маркса). Все можно. Шах показывал. Он мог переустроить любую жизнь. В каждый свой поход в Цирк на Цветном он оглядывался на пороге на безбилетных и тыкал пальцем в ближайшую маму с ребенком: и повсюду – эту маму с ребенком – на первый ряд, на манеж (клоуны вытаскивали гостей Шаха за руки: это наши люди!), за кулисы верхом на верблюде, морковкой кормить цирковых лошадей, за руку с дрессировщиком: «Медведей сейчас лучше не тревожить, но вам можно посмотреть», маму с ребенком на чай в гримерке у фокусника Кио, в кабинет к директору Никулину – автографы и конфеты, в кафе, на машине по вечерней Москве – это был обыкновенный день Шаха, но он знал – с ребенком этот день останется до гроба. Мама заикалась: «Вы кто-о?». Шах любил про себя так: «Добрый волшебник!».
В июле, в день объявления результатов битвы за Москву, когда на дверях факультета журналистики жалкая бумажка делила пушечное мясо списками на уцелевших и трупы (уцелевшие пили шампанское и весело плакали на маминых плечах, трупы синего цвета отходили, держа спину прямо и сжимая пыльные кулаки, ехали в метро, раздавливая на щеках слезы, качались в трамвае номер 26 к Дому аспиранта и студента на Шверника, погружаясь в горячий бред: ничо! попомнят! будут меня еще проходить на пятом курсе! декан еще побегает за лауреатом и звездой: «Пал Сергеич, шо же вы не заходите?!» – года не пройдет! – видите ли, трех запятых не хватило! – и с заплечными мешками и ручными сумками, пахнущими круглым московским хлебом и колбасой, достигали нужного вокзала и исчезали навсегда) – в этот день Шах приходил на факультет и цеплял рукой, как багром, проплывающий мимо труп, задавал несложные вопросы: пол, возраст, почему хотите писать? Труп молчал, расходуя все силы, чтобы не заплакать прямо на проспекте Маркса (теперь Моховая), 20, у памятника Ломоносова, чтоб дотерпеть до вагонной подушки, труп жестикулировал: не прошел по конкурсу, правды нет – Шах листал в приемной комиссии его «дело», если в предъявленных на конкурс публикациях что-то шевелилось, агукало и поднимало голову – Шах наваливался на Ясена Николаевича Засурского, декана, американиста, и душил: надо взять, талантливый парень, не хватило полбалла – декан хрипел, пытаясь сорвать с горла цепкие руки и кликнуть секретаршу из приемной (всего было две, одна – корова, вторая – единственный опыт удачного скрещивания собаки и человека), елозил ногами по ковру и сдыхал: да на!!! Шах выходил на высокое крыльцо факультета и бросал горсточку праха: «Живи», – из праха вылетал белый голубь, и Шах с высокого крыльца смотрел, как делает первые шаги заживо сделанный им из осинового бревна студент Московского университета.
Ему написал (до Интернета Шах обожал переписку, телефон, в конце своих появлений на страницах, экранах и радио указывал: звоните, пишите, вот я такой) педераст из Оренбургской области: тридцать три года, нету зубов, живу в деревне, ношу почту. Читаю книжки, да мало их доходит, тянет писать да не способен. Живое письмо, глаголы, существительные. Что ждало этого сельского оренбургского педераста? Ничто! Бутылка и срамное слово на воротнике. Шах вытащил п-а письмом в Москву, у себя поселил на Егерской, измучил декана именем оренбургского самоцвета, поступил п-та на подготовительное отделение журфака, через год засадил на первый курс, устроил работать дворником и жить в шестикомнатную квартиру на Волхонке (счастливый п-т кухарил для соседей и весело пил), его статьи печатали черно-белые газеты и глянцевые журналы мужские, женские и профильные, Шах выгнал п-та из дворников и вогнал в штат «Вечерней Москвы» и в хитрое общежитие, плывущее к приватизации (об этом знало только московское правительство) – п-ту надо было полгода пожить не шевелясь – и он собственник московской однокомнатной квартиры (тридцать тысяч долларов США по минимуму – ну, почему не я?!) – я много видел таких глиняных человеков, которых вылепил Шах: глухоманистые белорусы, не знающие русского языка и мечтающие о психиатрии, чтоб переделывать людям пол, участковые милиционеры, детские писатели, главные редакторы, клоуны, врачи, певцы, мастера спорта по стрельбе из лука, пианисты, отцы психоанализа и любители животных, начинающие массажисты, компьютерные дарования, дремлющие в акушерах – люди, поначалу ничего не знавшие про себя.
Я сперва холодно думал: врет. Мы сидели на концерте, Сергей Захаров – такой певец с оленьим носом, прославленный как тюремный сиделец, любимец моей мамы, и Шах пел: «Каким я его встретил в семнадцать лет, работал в ресторане, из историй вызволял, повозиться пришлось…». Я подумал: врет – Шах протащил меня за пазуху сцены до Захарова: «было? было?» (не упуская деталей, в таких случаях Шах не щадил), и тот стоял навытяжку, и сверху вниз покорно кивал: да. Да! Да и сам я – разве нет? – Шах таскался по исполкомам, выкапывая из-под песка мне жилье, квадратные метры, искал заказы, носил по редакциям статьи, возил к родителям в Тульскую область, перепечатывал рукописи, издал три книги (я только ездил подписывать договора и улыбаться), познакомил с будущей женой и только вышли на вечернюю улицу: будет ваша жена! – да я ее увидел пятнадцать минут назад, она же днем подала заявление в ЗАГС с одним ублюдком! я шел на ту работу, про которую Шах говорил: да! (может, он угадывал, что мне хотелось), – и главное: Шах слушал. Днем, ночью можно позвонить 269 41 сколько-то там, не видевшись год, позвонить: не спрашивайте ничего, сейчас к вам приеду. В каждом (себе, мне, московском мэре Лужкове) он видел несостоявшегося клоуна. Людям, которые ему нравились или шкурно были нужны, он говорил: «Мне кажется, вы смогли бы стать хорошим клоуном. В детстве никогда не хотелось?». Соглашались все.
П-т не дожил до приватизации общежития, его вышибли за незаконное подселение пожилой женщины, неаккуратное употребление спиртного и высказывания, что я человек немаленький, кого хочу – уволю. Литературу он писать не начал, продолжил пить, со штатных работ его одинаково выгоняли. Когда я начал издавать небольшой журнал «Кутузовский проспект», я дал п-ту небольшое задание. С тех пор я его не видел. Зато в булочной на Кутузовском проспекте человек, по описанию похожий на п-та, просил наличные деньги за рекламу в моем журнале.
На Шахову не ожидаемую в москвичах доброту моя мама опасалась: «Сынок, а он не аморальный?», Шах помогал сотням и тысячам людей во времена, когда не все покупалось, все могли только связи и упорство: суды, квартиры, прописка, операции, образование, работа, телефон, похороны, семья, коротко говоря – судьба. Люди Шаха, отдавая свою судьбу на поправку, плакали: «ВладиВлаиыч, чем я смогу вас?…» – «Бутылку боржоми!» – «Да я… Ящик!!! Двери моей квартиры всегда! Да просто живите в моем доме в Сочи каждое лето!» Шах хмыкал: «Все говорят: ящик. И никто потом даже бутылку». Шах не ошибался. Я – ни одной бутылки боржоми, хоть божился.
«Ничего не надо. Буду стареньким и слепым, пойду по обочине от Сокольников на Комсомольскую площадь, вы будете ехать на „Мерседесе“ – остановитесь и подвезите старого Шахиджаняна». А однажды: «Да ничего не надо. Если только кухню мне помоете, когда попрошу». Мы не виделись после этого полгода. Кухню я мыть не буду. Шах попросил прощения. Вы меня неправильно поняли.
Помыть кухню. Внутри меня среди многих людей один считал: Шах обязан делать для меня все. Этот один человек внутри не слышал: «А с какой стати?» Шах подкармливал этого человека, он (и всех, наверное) убеждал: «Если б не я, вам помогал бы кто-нибудь другой». Но внутри меня были и другие люди, совестливые и работящие. Их было больше. Помыть кухню. Многие изделия Шаха батрачили на него впрямую: ходили по магазинам, в прачечную, выгуливали пса, скребли полы, стирали простыни-наволочки, носки-трусы, стряпали, мыли посуду – взамен они получали Москву. Помыть кухню. Шах жил запущенно, сын в армии, жена умерла, внешняя бедность и грязь, поразившая мою маму (бедность и грязь, и особенно дырявые носки Шах показывал охотно) – сам пауком сидел в чужих бедах, не имея на рубашку десяти рублей старых денег, уборки его, больного и слабого, мучили, и разве стыдно – помочь? – ведь я весело лопатил снег от гаража, пока он грел машину (меня же ночью везти в общагу, уверяя: с удовольствием!), писал заметки для его шкурного интереса. Помыть кухню. Я не знаю.