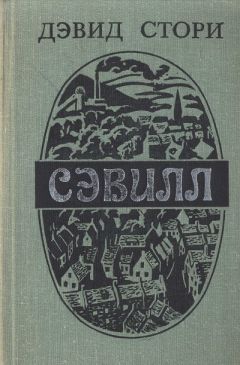Дэвид Стори - Сэвилл
— Я и сам знаю, — повторял он в ответ на уговоры матери. — Мне повезло, что я еще жив остался. — И добавлял: — Да только что в постели лежать, что в могиле.
Или он откидывался назад, вперял в потолок тоскливый, измученный взгляд и говорил:
— Сколько раз кровля обрушивалась, и меня чуть заживо не погребало, и чуть спину не перебило, и чего только еще не случалось! А когда попался, то, спрашивается, где? На пустой дороге!
Стивен уже ползал, и он сажал его на свою бесформенную ногу, с натугой нагибался вперед, брал малыша за руки и покачивал вверх-вниз, вверх-вниз.
А иногда он стоял у окна, балансируя на своих железных опорах, и смотрел на дворы или держался за шкаф и стучал по гипсу палкой. Он больше года копил десять фунтов на отпуск, но теперь все отложенные деньги разошлись. Он стучал кулаком о стену, а мать смотрела на него, стискивая руки.
— Сейчас надо думать о том, как тебе скорее поправиться, — говорила она, — а не хныкать.
— Хныкать? — говорил он. — Когда от моей жизни всего ничего осталось!
— Что-то незаметно.
— Незаметно? — Он швырял палку об пол так, словно хотел разбить ее в щепки, но через секунду уже просил мать поднять ее, потому что не мог без нее передвигаться.
— Когда я в прошлый раз сломал ногу, так чуть без работы не остался, ты же помнишь, — сказал он.
— Да, — сказала она. — Но сейчас война и для всех есть работа.
— Для всех-то есть. А у меня что? Гипсовые болванки вместо ног.
В молодости он лишился места, когда найти работу было невозможно. Случилось это незадолго перед тем, как он женился. На той же шахте, где он работал теперь, углубляли ствол; спускаясь туда, он неудачно выпрыгнул из клети и подвернул ногу.
Опухать нога начала, только когда он уже возвращался на велосипеде домой. Особенно распухла лодыжка. Он забинтовал ее и работал еще неделю, боясь показать врачу — а вдруг повреждение окажется серьезнее, чем он думал? К концу недели он уже почти не мог наступать на ногу и добирался до шахты два часа. Кончилось тем, что он упал вместе с велосипедом у ворот, лежал на дороге и стонал.
Сменный мастер отправил его в больницу на подводе с углем. Он пролежал три недели.
— Еще день, и ногу пришлось бы отнять. Врачи понять не могли, как я столько времени продержался.
— А как ты продержался? — спросил Колин. Теперь каждый день, когда он возвращался из школы, отец рассказывал ему новые подробности этого происшествия или других таких же.
— Работай ты на моем месте, сам бы знал как, — говорил отец и смеялся. — Выписали меня, и я прямиком на шахту, так, мол, и так, готов заступить на смену. «А я думал, Гарри, что ты умер, — говорит мастер. — Мы на твое место другого взяли». — «Это кого же?» — спрашиваю я. «Того самого, — говорит, — кто пришел сказать, что ты умер». Нет, ты только подумай. Ну, вызвал он его наверх. Ирландец это был, ростом с дом.
— И что он сказал? — спросил Колин.
— А что ему было говорить? — ответил отец. — «Вас двое, а место одно, — сказал мастер. — Даю вам пять минут, разбирайтесь сами как знаете». — Отец помолчал. — Мы пошли за контору, а через пять минут вернулся один. — Он весело смотрел на Колина и улыбался.
— А кто вернулся?
— Сам догадайся, — сказал отец и засмеялся. — Только с тех пор я так там и работаю. — Он захохотал, а мать не спускала глаз с его лица.
В молодости отец все время с кем-нибудь дрался и любил выпить. Из драк он всегда выходил победителем и, как бы ни был пьян, соображения не терял.
— Когда я с ним познакомилась, — говорила мать, — он был сущий дьявол. При одном его имени люди бежали домой и запирали двери.
— Это ты напрасно, — говорил отец. — Я всегда умел за себя постоять. Конечно, ростом я не вышел, но зато брал быстротой.
— Вот-вот, — говорила мать. — Особенно когда видел, что дело плохо.
Отец стукал палкой по столу и багровел.
— Я в жизни ни от чего не бегал. Никогда.
— Да-да, я знаю, — добавляла она и наклонялась к нему, чтобы поцеловать.
Отец часто сердился, но легко успокаивался.
Возможно, из-за этого случая он задумал уйти со своей шахты и устроиться на шахту в поселке.
Колин не мог себе по-настоящему представить, что его отец в самом деле работает под землей. Он ни разу не видел его шахты, хотя наслушался много рассказов и про нее, и про шахтеров, которые работали с отцом. Уолтерс, Шоукрофт, Пикерсгил, Томас — каждая фамилия вызывала в его мозгу особый образ. Высоченные силачи, которые почему-то именно из-за своей силы признавали главенство его отца, если случалось что-то опасное или неожиданное.
— Просто удивительно, как это без тебя шахта еще работает, — говорила мать, когда неделю спустя его истории начали ей надоедать. Придерживая Стивена на плече, она меняла ему подгузник, а потом опускалась на колени перед очагом, клала малыша перед собой и с булавками во рту смотрела на отца. За эти дни она очень окрепла, да и Стивен теперь по ночам почти не просыпался.
Отец вставал и шел к окну, покачиваясь на металлических опорах, опираясь на палку. Возможно, ему было обидно, что о его подвигах на работе, об обвалах, о людях, которых он спас, об инстинкте, который подсказывал ему, куда бежать, когда рушилась кровля, она узнавала только от него самого: Уолтерс, Шоукрофт, Пикерсгил, Томас — все они жили в других поселках. Пожалуй, это решило дело: все-таки тут и мистер Стрингер, и мистер Шоу, а может быть, и мистер Батти смогут рассказывать ей о том, как он чуть ли не каждый день совершает что-то, спасая человеческие жизни или поднимая производительность шахты.
Через несколько дверей от них жил мистер Риген. Он служил в конторе шахты и каждое утро выходил из дома в темном костюме, желтых перчатках, в котелке и со свернутым зонтиком. Он был высокий, краснолицый и говорил с легким ирландским акцентом. Каждое утро, когда он уходил на работу, его жена стояла со скрещенными руками у открытой двери, глядя ему вслед, пока он не скрывался за углом. Он никогда не махал ей, даже не оглядывался, но она продолжала стоять там, пока он не заворачивал за угол. Незадолго до его возвращения со службы она вновь появлялась в дверях, словно вовсе не покидала этого места, и придерживала дверь, когда он входил, уже снимая котелок. У них был один сын. Его звали Майклом, и он играл на скрипке. Сложением он пошел в миссис Риген — большая голова луковицей, узкое туловище, тощие ноги. Его отец, мистер Риген, словно его не замечал. По вечерам, когда на пустыре играли в крикет, мистер Риген без белого воротничка, в расстегнутом жилете стоял у забора в конце своего огорода и кричал:
— Бей, черт побери! Бей сильнее! — А из открытого окна позади него доносились звуки скрипки.
Его отцу мистер Риген очень правился. Он единственный на их улице работал не посменно, а в определенные часы, одевался, точно джентльмен, и как будто не обращал на свою жену ни малейшего внимания. Вечером в субботу он шел в Клуб все в том же костюме, котелке и перчатках и стоял у стойки в баре, сохраняя полную невозмутимость, сколько бы спиртного ни выпил. Шахтеры его побаивались: он составлял ведомости на заработную плату, он объяснял причины и сумму вычетов, и он знал заработок всех шахтеров в поселке. Кроме того, он затевал драку со всяким, кто, по его мнению, сказал что-то обидное или просто не так на него посмотрел.
Отец подробно описывал драки мистера Ригена, которые обычно следовали одной схеме. Чаще всего они разыгрывались в баре Клуба и неизменно начинались с какого-нибудь замечания в адрес мистера Ригена — насчет его котелка, который он снимал только в конторе или на пороге своего дома, его желтых перчаток, которые он тоже никогда не снимал, или свернутого зонтика, который он не раскрывал даже в дождь.
Оскорбившись, мистер Риген сначала ничем этого не выдавал. Он продолжал говорить, улыбаться или благодушно оглядываться по сторонам, затем в какой-то момент, определявшийся только им самим, ставил рюмку на стойку, но еще несколько секунд продолжал ее придерживать, словно опасаясь, что она исчезнет, едва он разожмет пальцы. Потом с той же невозмутимостью снимал котелок и клал его возле рюмки, затем стягивал правую перчатку и клал ее в котелок, стягивал левую и клал ее на правую и, наконец, поддергивал манжеты.
— Не вы ли это минуту назад, — говорил он, неторопливо поворачиваясь к оскорбителю, — сделали замечание относительно моей наружности?
Чаще всего тот оглядывался с недоумением, так как для него эта минута уже давно прошла.
— В таком случае, — говорил мистер Риген, — сейчас ваши зубы влетят вам в глотку.
Иногда тот утверждал, что никаких замечаний о наружности мистера Ригена не делал и вообще молчал.
Или же с улыбкой кивал и говорил:
— Ах так? И кто же это за вас постарается?
— Да вот, — говорил мистер Риген, — есть тут один такой.