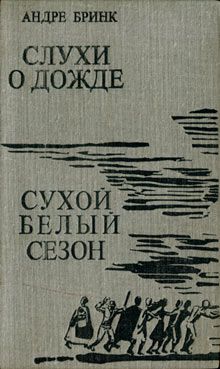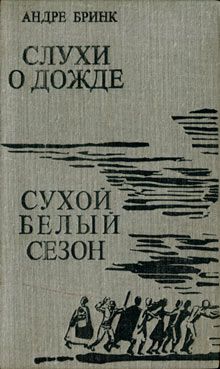Андре Бринк - Слухи о дожде. Сухой белый сезон
На другой стороне пыльной улицы, возле покосившегося белого забора, однообразно и монотонно скакала маленькая девочка с хмурым, сосредоточенным лицом, а с крыльца дома напротив за ней следил, прислонившись к столбу, старик; трубка безжизненно торчала у него изо рта. Он тоже «запнулся» — на чем? Бернард рассказывал мне о своем деде с северо-запада, который вот так же однажды следил за соседской девочкой, ловя мгновения, когда у нее задерется юбка. Штанишек она, очевидно, не носила. Дед Бернарда неотрывно глядел на нее, стиснув трость так, что у него побелела кожа на костяшках пальцев. Когда силы оставили его, он позвал жену из дома:
— Прогони-ка эту голозадую девчонку, пока меня не хватила кондрашка.
— Почему бы тебе просто не отвернуться? — спросила жена.
На что старый Бернард ответил воистину бессмертной фразой:
— Это бесполезно. Проклятая штуковина, как фонарь. Ее видишь, даже когда не смотришь.
Вот и я спрашиваю себя: не так ли было и со мной в тот уикенд — я старался не смотреть, но все равно видел?
Луи вышел из уборной, засунув руки в карманы джинсов.
— Холодно? — спросил я.
— Когда мы будем на ферме?
Я посмотрел на часы:
— Около одиннадцати. Устал?
— Ерунда, — усмехнулся он. — Вот в тот день за Са-да-Бандейрой…
— Знаешь, ты ничего толком не рассказывал об Анголе.
— А что рассказывать? Вам, здешним ослам, этого не понять.
Меня возмутило его «вам, здешним ослам», но я постарался не подать виду. К чему сразу настраивать его против себя. Хотя я уже чувствовал, что вся моя затея идет прахом.
Механик все еще возился с последствиями комариного нашествия. Одной рукой он поливал стекло тонкой струйкой воды из лейки, а другой яростно тер его обрывком газеты.
— Как дела?
— Все в порядке, шеф, — улыбнулся он.
Люди в синей форме, смывающие с асфальта куски человеческих тел. Чарли рассказывал, что там было после волнений: рассеченные на части тела, вывороченные языки и пустые глазницы, мертвые застывшие лица, измазанные экскрементами. Словно само это насилие таилось до поры за колючей проволокой лагеря. Для цивилизованного человека видеть такое невыносимо.
В начале нашего знакомства, когда Бернард привел ко мне Чарли, я спросил:
— О господи, старина, зачем вы вернулись в эту страну? В Англии вы могли делать все, что угодно. Вы же преподавали в университете. Почему вы не остались там?
Он улыбнулся, обнажив десны.
Вы ведь, кажется, тоже там были. Вы хотели бы остаться?
— Нет, конечно. Но…
— Что?
•До некоторой степени я, разумеется, могу его понять. Но это чисто эмоциональное отношение, абсолютно лишенное здравого смысла. И хотя я знаю многих людей, склонных относиться к Африке эмоционально, мне все же трудно было поверить, что и мотивы Чарли столь же бессмысленны.
Мне вспоминается один из дней на Гибралтаре во время медового месяца. Мы стояли на скале и смотрели через пролив на береговую линию Африки, синеющую на блеклоголубом фоне неба. Никогда в жизни я не чувствовал такой ностальгии.
Наконец я взял Элизу за руку и сказал:
— Пойдем.
Нам надо было попасть в Малагу до наступления темноты. Уже собравшись уходить, мы заметили африканца, смотревшего в ту же сторону. И вдруг с беззастенчивой гордостью, словно ребенок, объявляющий совершенно незнакомым людям о своем дне рождения, он сказал, обращаясь к нам:
— Там моя страна.
— Марокко?
— Нет. Мой дом южнее, в Нигерии.
— Мы тоже из Африки.
— Тяжело быть вдали от нее.
Вот и вся беседа. Но именно благодаря ей я впервые в жизни по-настоящему понял, что такое Африка: континент бесчисленных поколений людей, древнее homo sapiens — моя земля и земля этого незнакомца.
Может быть, не стоит столь строго судить тех черномазых с рудников. Как им приспособиться к жизни за колючей проволокой, в квартирах, в отведенных им кварталах. После всего того, к чему они привыкли — равнины и холмы Лесото и Транскея, хижины, женщины, работающие в поле, тыквенные бутыли с кислым молоком, гашиш, обрезание, танцы, жертвоприношения.
Я сам не умел пользоваться лифтом, пока не попал в университет. Если бы Бернарда или меня вдруг вырвали из деревенской среды нашего детства, что сталось бы с нами? Мы бы, конечно, легче приспособились, но тоже далеко не сразу.
Я считаю своим долгом объяснить суду, почему я отстаиваю свои убеждения, как я к ним пришел и вследствие чего оказался вынужденным перейти к активным действиям.
Для начала я хочу подчеркнуть, что происхожу из семьи, доказавшей свою преданность делу африканеров участием в англо-бурской войне, в восстании 1914 года и даже в подпольной деятельности организации Оссева-Брандваг во время второй мировой войны. Примерно до двадцати пяти лет я был убежденным националистом. Подобно многим молодым африканерам моего поколения, я вырос на ферме. Подобно им, я был одинок во многих отношениях. У меня не было братьев, только четыре сестры, все гораздо старше меня. Там, где я рос, фермы велики и расположены далеко друг от друга. За исключением нескольких соседских ребят, моих одноклассников, моими товарищами были чернокожие ребятишки с нашей фермы. Одного из них я до сих пор считаю своим лучшим другом. (Вернее, много лет спустя мы снова стали друзьями.) К сожалению, я не могу назвать его имени — даже упоминание о нем причинит ему неприятности. Многие годы мы вместе проводили все время, кроме тех часов, когда я был в школе. Мы играли и дурачились, охотились за мартышками и зайцами, искали птичьи гнезда, лепили из глины зверюшек, купались. Часто я ел с его семьей путу[3] из железной миски возле их глиняной хижины. И никогда мне не приходило в голову, что разный цвет кожи может причинить нам горе или радость или как-то повлиять на наши отношения. По-моему, тогда мы даже не подозревали, что один из нас черный, а другой белый. Лишь гораздо позже, когда мне исполнилось одиннадцать лет и меня послали в городскую школу, я…
В мой последний университетский год Бернард пригласил меня к себе на ферму на пасхальные каникулы. Я не случайно так хорошо запомнил эту поездку! Мы поехали поездом, что воскресило мои впечатления раннего детства — запах зеленой кожаной обивки, стук дверей, когда мимо проходил проводник или кондуктор, откидной столик у рукомойника, дорожная трапеза: холодная баранина, яйца, помидоры, сушеное мясо. Перед отправлением у Бернарда схватило живот, и ему пришлось в последнюю минуту бежать в привокзальный туалет. Я боялся, что он опоздает на поезд. Когда буквально в последнее мгновение он все же появился, я не мог понять, чему он ухмыляется.
— В чем дело? — спросил я, протягивая ему руку и помогая вспрыгнуть на подножку.
— Облегчился на славу, — сказал он. — Но каких денег мне это стоило!
Оказывается, забежав в туалет, он не нашел там ни клочка бумаги и пустил в дело чековую книжку. Но он не был бы Бернардом, если бы не заполнил каждый из трех чеков на тысячу фунтов, прежде чем подтереться ими.
Жалобы на желудок возобновились во время поездки, в ходе нашей беседы о религии (в которой я к тому времени уже начал сомневаться). Когда разговор окончательно надоел Бернарду, он вытянулся на верхней полке и, улыбаясь, сказал:
— Говоря о религии, следует помнить слова Сартра о ситуативном мышлении и опыте. Я полагаю, что концепция загробной жизни в значительной степени зависит от состояния желудка. Когда у меня резь и я принимаюсь писать чеки, как сегодня утром, я теряю всякий интерес к посмертному бытию.
Часа в три или четыре утра нас вытряхнул из купе проводник, обещавший разбудить вовремя, но тоже проспавший. Еще не поняв, что происходит, мы уже стояли на темном перроне, в пижамах и подхватывали чемоданы, которые старик передавал нам из окна вагона; его лысина поблескивала сквозь седые редкие волосы — у него не было времени надеть форменную фуражку. Пока я ставил чемодан на землю, гудок взвыл и поезд умчался в ночь.
Это нельзя было даже назвать станцией, просто полустанок в степи. Крошечная платформа, маленькое здание из красного кирпича, несколько пустых огнетушителей вдоль боковой стены, небольшой зал ожидания с коричневыми скамьями, уборные под перечным деревом, а по другую сторону путей ветхое строение для чернокожих.
Нас никто не встречал, даже стрелочник. Мешок с почтой, сброшенный с поезда, валялся в дальнем конце платформы. Рядом с ним стояли молочные бидоны, вероятно дожидавшиеся товарного поезда.
Мы оделись в зале ожидания — не без шуток, так как оказалось, что один башмак Бернарда остался в поезде. Воздержавшись от посещения дурно пахнущей уборной, мы справили нужду под перечным деревом и уселись на ступеньки у входа в здание.