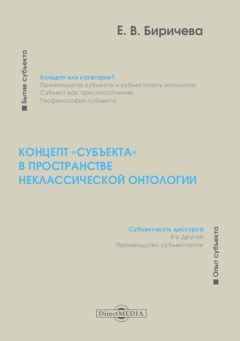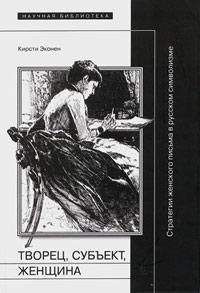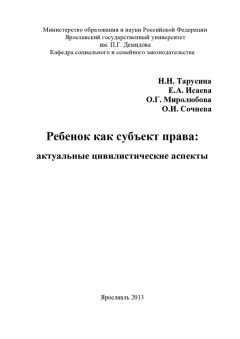Олег Ермаков - Зимой в Афганистане (Рассказы)
— Не ты. Кто же? Ну, отвечай.
Стодоля молча глядел на него.
— Почему молчишь?
Все настороженно затихли.
— Я не знаю, не видел, — чугунным голосом ответил наконец Стодоля.
— Конечно, откуда тебе знать. У тебя голова занята чем угодно, только не службой, текущую действительность, так сказать, ты не замечаешь, спишь на ходу. Что мне, беседовать с вами в закутках? Чтоб никто не видел и не слышал, да? Или, может, вы мне анонимки начнете присылать? Заведем такую моду? Никто ничего не знает, никто ничего не слышит, их кантуют, они молчат, им квасят носы и фонари ставят, они: упал, шел, поскользнулся, очнулся — фонарь. Ну, когда-нибудь я вас всех распотрошу! Не улыбайся, Остапенков, ты первым пойдешь в дисбат! — Ротный замолчал и взглянул на часы. — Полковая поверка отменяется, — сказал он.
Солдаты радостно загудели.
— Дождь. А на носу Новый год. Так... Ну, все вроде на месте? Дежурит сегодня кто? Топады. Топады, кто у тебя дневальные?
Сержант Топады назвал три фамилии.
— Опять все молодые. Так не пойдет. Переиграем. Удмурт будет дневалить, Иванов и Жаров. Вопросы? — Ротный снова посмотрел на часы и направился к выходу. — Через полчаса отбой, приду проверю, засеку кого в вертикальном положении — пеняй на себя. Службу, дневальные, не запорите. Все.
— Я не буду дневалить, — сказал Жаров. Это был толстый солдат, весь вечер певший себе под нос песни. Он был «дембель», последний из могикан, — все его товарищи еще месяц назад уехали в Союз, домой, а его задержали из-за драки с прапорщиком. Этот прапорщик имел обыкновение сидеть в офицерском туалете по вечерам и следить в дверную щель за мелькавшей над занавесками в освещенном окне кудрявой головой. У Вали, машинистки из штаба, в полку был богатый выбор, и прапорщику, нехорошему лицом, худосочному и потасканному, как говорится, не светило. И по вечерам он сидел в туалете напротив ее окна. В тот злополучный вечер прапорщик перевозбудился, увидев между занавесками белую грудь и кусок живота. Посреди ночи он проснулся, он ворочался, ворочался, но так и не смог заснуть, — все эта грудь с коричневой вершинкой и белый кус живота мерещились; прапорщик встал, оделся и пошел, сам не зная, зачем, под окно Валечки. Окно оказалось приоткрытым, он отворил створки, полез в комнату и увидел белеющие в темноте задыхающиеся тела, тут же одно тело подскочило, и прапорщик слетел с подоконника, заливая мундир кровью из носа. Прапорщик молча поднялся и опять полез в окно и вывалился вместе с полуодетым солдатом. Они катались по земле, хрипя и колотя друг друга. Валечка закрыла окно и смотрела на них, кусая губы и злобно охая. Командир танкового батальона, вышедший по нужде, увидел их и, решив, что в полк проникли враги, вбежал в офицерское общежитие и крикнул: «Тревога!» На допросе, который вел сам начальник штаба, прапорщик врал, что увидел, как кто-то пытается открыть окно, и схватил взломщика, а тот начал драться, а Валечка твердила, что ничего не знает, солдата видит впервые, прапорщика тоже, — она спала, а потом услыхала шум, крики, стрельбу. Жаров нес дичь, спасая Валечкину репутацию, которая была давно и до последней нитки промочена. В конце концов начштаба запутался в этой истории, прекратил дознание, отчитал Валечку и прапорщика, а сержанта Жарова разжаловал, упек на десять суток и пообещал, что Новый год тот встретит в полку, а не дома.
— Не козлись, Жаров, — мягко сказал ротный. — Ты же знаешь, я давно отпустил бы тебя, но... По мне — лежи ты лежмя сутками. Но командование интересуется, служишь ты или груши околачиваешь. Не могу же я врать, посуди сам.
— Не буду я дневалить, — равнодушно повторил бывший сержант. Он снял ремень. — Пишите записку начкару.
— На губе сейчас холодно.
— Пишите, — угрюмо сказал Жаров.
— Ты мне надоедать начинаешь.
— Пишите.
— Напишу, а что ты думаешь.
— Пишите.
Старший лейтенант крякнул:
— Ладно, еще успеешь насидеться на губе. — Вздохнул: — Возьму грех на душу. Кто там? Аминджонов, будешь третьим дневальным. И не трепитесь! — громко сказал он всем.
Солдаты откликнулись восхищенным гулом. Старший лейтенант вышел под дождь, зная, что они любят его еще больше.
Картежники вернулись в свой отсек, зачиркали спичками, прикуривая. Жаров разделся и лег, укрывшись байковым одеялом, хотя до отбоя оставалось полчаса. Алеха Воронцов наполнил три зеленых обшарпанных котелка водою и поставил их на печку. Примолкшая печка опять расшумелась, — вентиль был лихо повернут против часовой стрелки.
Иванов и Удмурт были злы, дневалить им совсем не хотелось. Остапенков подошел к Алехе Воронцову, сидевшему возле печки с целлофановым мешком трофейного чая.
Почуяв недоброе, Алеха с виноватой гримасой на лице встал. Он готовился выполнить приказ: «Душу к бою!» Этот странный приказ никому никогда не казался странным, услышав его, нужно было просто выпятить грудь и получить удар кулаком по второй пуговице сверху, — в бане сразу были видны непонятливые и нерасторопные «сыны» и «чижи», посреди груди у них синели и чернели «ордена дураков» — синяки. Воронцов приготовился к удару в «душу», ведь он опростоволосился три раза: не успел вовремя передать портянки «дедам», вякал, когда не спрашивали, и нукал, как на конюшне.
Но Остапенков положил ладонь на плечо Воронцова и сказал:
— Садись. Чай покрепче чтоб.
— Есть!
Остапенков помолчал и вдруг спросил:
— Слушай, мог бы ты дать пощечину Дуле?
— Дуле?
— Ага.
— За что?
— Так. Если мы тебя очень попросим. Один эксперимент надо провести.
Воронцов растерянно заморгал и пробормотал:
— Не, но как? Надо за что-то...
— Найдем, за что.
— Да? Я не знаю... Если очень нужно...
— Очень. Мы потом тебя разбудим, — сказал Остапенков. — Забацай чай и ложись, а после мы тебя поднимем.
Остапенков прошел в свой отсек, где его ждали Иванов, Удмурт, Санько и еще несколько «дедов» и два «черпака», друживших с «дедами».
— А где этот? — спросил Остапенков.
— Нету. Видно, побежал вычерпывать из штанов, — сказал один «черпак».
— А кто ему разрешил? — спросил Остапенков. Он окликнул дежурного сержанта. Сержант сказал, что в туалет отпросились Бойко и Саракесян, а Дуля не отпрашивался. У Остапенкова вытянулось лицо. Это уже было ни на что не похоже, — все «сыны» и «чижи» обязаны были докладывать, куда и на какое время они отлучаются по личным делам. Как правило, по личным делам они уходили из палатки только в туалет. Правда, «чижам» позволялось еще навещать своих земляков в других подразделениях и библиотеку, «сынов» же не пускали ни к землякам, ни в библиотеку. Впрочем, в библиотеку пойти не возбранялось, но при одном условии — если «сын» знает наизусть устав караульной службы, — разумеется, никто и не пытался сдавать экзамены, чтобы получить право на посещение библиотеки.
— Да брось ты, — сказал Иванов, — на стукача он не похож. Я изучил эту породу, у них есть понятия.
— А что, запросто пойдет и заложит, — тихо проговорил Санько, вспоминая, бил ли он когда-нибудь Дулю или только обзывал.
— Пусть только попробует, — сказал Удмурт, почесывая мохнатую грудь.
— Он просто запамятовал, что он «сын», — сказал Иванов.
Остапенков закурил. Он затягивался дымом и задумчиво вертел в пальцах обгорелую, скуксившуюся спичку.
— А если заложит, ну? — спросил Санько.
— Да бросьте вы, мужики, — сказал второй «черпак».
— В туалете сидит, — сказал «дед». Помолчали.
— Скоро там отбой? — спросил Санько.
Остапенков хмуро посмотрел на него.
— Сначала с ним разберемся, — сказал он.
Прошло десять минут, двадцать, из туалета вернулись Бойко и Саракесян. Дулю они не видели.
— Мелюзга и «черпаки» пускай ложатся, а мы это дело доведем до конца. Отбивай, Топады, — сказал Остапенков.
Дежурный сержант-молдаванин посмотрел на часы и гаркнул: «Отбой!»
Все начали укладываться: «чижи» торопливо, «черпаки» неспешно, а «сыны» молниеносно, — грохоча сапогами, лязгая пряжками и треща пружинами коек.
«Деды» и два «черпака» пили черный чай, потея и громко сопя. К чаю были галеты и сахар. Галеты отдавали плесенью. Зимой все отдавало плесенью: чай, макароны, супы, порошковая картошка и хлеб. Имевшие знакомства на продуктовом складе хлеб не ели, носили в столовую галеты. Хлеб выпекали в полку. Буханки были плотные, низкие, заскорузлые, кофейного цвета, пахнущие хлоркой и очень кислые, — от этого хлеба весь полк мучился изжогой, доводившей до рвоты. Офицеры питались другим хлебом, пшеничным — высоким, мягким, светлым, — офицерским хлебом. Хорошей муки и сильных дрожжей мало присылали в полк. Война есть война.
— Нет, ему же это невыгодно, — сказал Иванов. — Его самого по головке не погладят: стукач да еще верующий.
— А мне брат рассказывал, — вспомнил первый «черпак». — У них на корабле — он на море служил — тоже выискался один. На берег служить проперли.