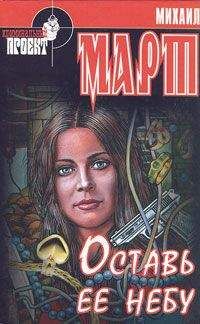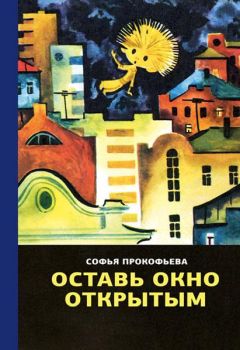Натали Саррот - Детство. "Золотые плоды"
— Который бывал и опасным... как-то, когда вы были вдвоем, она вдруг принялась кричать, чтобы подумали, что ты сделала ей больно...
— Но даже тогда Вера не очень на меня рассердилась... Она себе этого не позволяла. Может, боялась играть непривлекательную роль мачехи...
— Может... и потом она ощущала вокруг меня пусть далекое, но оберегающее присутствие отца... Мне кажется, что на свой, чуть диковатый лад, даже не отдавая себе в этом отчета, она его боялась...
— Да, не отдавая себе в этом отчета, она видела в нем своего господина... Не исключено, что она просто заподозрила, что Лили разыгрывает одну из своих комедий...
— Нет, не думаю... Я не верю, что она была способна на такую проницательность... и уж никак не в подобном случае... И я не верю, что Вера могла обнаружить коварство Лили. Она, должно быть, ограничилась тем, что сказала мне: «Не трогай ее, прошу тебя. Оставь ее в покое». А я, должно быть, ответила: «Да не трогаю я ее».
После рождения Лили Вера очень похудела, побледнела, папа пошел с ней на консультацию к профессору, который сказал, что ей угрожает чахотка и необходимо хорошее питание... С тех пор в час полдника на стол в столовой ставят две тарелки — одну для нее, другую для меня... я вовсе не нуждаюсь в дополнительной еде, но Вера предложила мне есть вместе с ней... В наших тарелках золотящиеся и блестящие от свежего масла макароны; когда подносишь вилку ко рту, с нее длинным языком свисает расплавившийся сыр, который перекусываешь зубами. Я поглощаю все, что у меня в тарелке, и часто, когда моя тарелка пуста, Вера предлагает мне то, что осталось у нее... «Доешь, если хочешь, я больше не могу, как себя ни заставляю...»
Когда Вера не занята с Лили, когда забывает о ней, она порой так молодеет...
В лесу в окрестностях Парижа, на дороге, обсаженной с двух сторон высокими деревьями с желтеющей листвой... солнце мягко греет, дивно, бодряще пахнет мхом... я вскарабкиваюсь с помощью Веры на свой велосипед, она некоторое время бежит за мной, положив руку на седло, потом отпускает... но на повороте, хлоп, я снова падаю... мы смеемся... «Это просто невероятно, ты это делаешь нарочно... Ты, наверное, заранее боишься, сжимаешься, посмотри на меня». Я немного подсаживаю ее на седло велосипеда, она нажимает на педали, поворачивает, ее уже не видно... Мы с отцом аплодируем, когда она возвращается, улыбается... И она тоже аплодирует и кричит «браво!», когда мне наконец удается преодолеть этот поворот...
И мы учим отца ездить на велосипеде... Но он так напряжен, так неловок, так не уверен в себе... мы бежим за ним, поддерживая с обеих сторон, но стоит его отпустить, он останавливается, ставит одну ногу за землю... «Нет, увольте»... Вид у него сконфуженный, смущенный, у него нет способностей, и каким старым он кажется... и мне вдруг становится его жалко...
— Ему, однако, было всего сорок два — сорок три года...
— Но в то время старели раньше, чем теперь. И он был таким неспортивным... Он показался мне внезапно совсем старым, и мне почудилось, что Вера тоже видит его таким и что он сам ощутил себя стариком рядом с ней, когда она бежала со мной, поддерживая седло, когда мы обе его уговаривали, когда ласково посмеивались над ним... Любой бы сказал, что Вера — моя старшая сестра, что мы обе — его дочери.
Мы с Верой сидим бок о бок за обеденным столом, накрытым золотистой плюшевой скатертью. Я смотрю на ее маленькие тонкие руки с подвижными пальцами, которые погружаются в плошку с табаком... это смесь, которую папа приготовил сам, и куда добавили кусочки сырой моркови, чтобы табак не пересыхал... Вера вытаскивает тремя пальцами щепоть табаку, слегка теребит его, чтобы разделить слипшиеся листики, потом распластывает в металлической трубочке, раскрытой на две половинки и лежащей перед ней на бумаге... она хорошо приминает табак в каждой из двух половинок и с легким щелчком соединяет их... Потом она берет из большой коробки пустые гильзы, которые папа выписывает из России, он курит только папиросы. Папиросы — это сигареты, у которых картонный кончик такой же длины, как бумажный. В этот цилиндр из тончайшей бумаги Вера вводит металлическую трубочку... выталкивает осторожно табак, которым она набита, наполняет...
— Но как?
— Я не очень хорошо помню. Мне кажется, она толкает шарик вдоль щелки, прорезанной в трубочке... Потом, не порвав бумаги, она вынимает трубочку, постукивает пальцем по наполненному концу сигареты, чтобы подровнять табак, снимает крохотную соринку, торчащую из гильзы наружу...
Я слежу за каждым ее движением... мне тоже хочется попробовать... она позволяет мне взять щепотку табаку, потеребить его, разложить по половинкам открытой металлической трубочки, защелкнуть... потом вытащить из коробки пустую гильзу... ввести в нее кончик трубочки, надавить... «Осторожно, не толкай слишком сильно»... я стараюсь двигать возможно тише, но бумага такая непрочная, и вот — она лопается...
Я хочу еще. «Ну позволь мне, хоть один разок... — Ладно, но потом уж не проси. — И опять бумага рвется... — Больше пробовать нельзя, нельзя транжирить эти гильзы, здесь их не купишь, а папа не может без них обойтись».
Отец вынимает из ящика письменного стола и протягивает мне открытку, на которой из большого букета роз высовывается смуглая головка девочки... «Прочти, что написано на обороте...» Я узнаю почерк своего дяди Яши, читаю: «Дорогой мой маленький Ташок...» — и другие нежные слова... Передо мной проходят разные образы дяди Яши; должно быть, в ту пору их было много, один, во всяком случае, я помню, единственный оставшийся, он всегда во мне...
Он идет со мной рядом, держа меня за руку, он тонкий, как папа, но выше и моложе его... он пришел за мной на улицу Флаттер, он-то с мамой встречается и даже обменивается с ней несколькими словами... Мы переходим большую площадь перед Малым Люксембургом, и, прежде чем войти в калитку, он останавливается, выпускает мою руку, наклоняется ко мне, снимает перчатку и неумело застегивает пуговицу на воротнике моего длинного серого пальто с пелеринкой... он смотрит на меня... глаза у него очень похожи на папины, но не такие пронзительные, более мягкие... от его лица, узкого и бледного, от его движений на меня изливается ласковая мягкость...
«Эту открытку нашли у него в кармане...» Отцу не надо говорить мне ничего больше, я знаю, что дядя умер, задохнувшись в каюте корабля, который вез его из Швеции в Антверпен, где его ждал отец... Отец вынужден был навсегда покинуть Россию, чтобы спасти дядю, которого могли выдать «охранке», страшное слово, его я узнала здесь... Папа забирает открытку... «Ты не отдашь ее мне?» — Нет, я хотел, чтоб ты ее увидела, но буду хранить ее для тебя...» Мне хочется плакать, мне кажется, что и ему тоже хочется плакать, я была бы рада броситься к нему в объятия, прижаться к нему, но не смею... Здесь он не такой, как прежде... далекий, замкнутый...
— Он никогда больше не называл тебя Ташком...
— Я заметила это не сразу... Мне кажется, что тогда я чувствовала в нем только какую-то сдержанность, неловкость... особенно в присутствии Веры, а она почти всегда была рядом. Но даже в такую минуту, как эта, когда мы с ним наедине, когда между нами, только между ним и мной, существует такая тесная связь, неловкость не исчезает.
— Ну что ж, раз Вера отказывается купить мне его, я мгновенно принимаю решение... Чуть отстав, я протягиваю руку и хватаю один из пакетиков с драже, лежащих кучей на уличном лотке кондитерской, прячу под своей широкой матроской и догоняю Веру, придерживая рукой пакетик, прижатый к животу... Но нас быстро настигают... Продавщица видела меня через стекло... «Девочка украла пакетик драже...» Вера меряет женщину взглядом, глаза ее расширяются, приобретают густо-синий цвет... «Что вы такое говорите? Этого не может быть!» Я машинально трясу головой, без всякой уверенности твержу: «Нет!»... Продавщица показывает или просто пристально смотрит на вздутие в нижней части моей матроски, и этого достаточно, я вынимаю пакетик, вытянув из-под резинки, которая придерживала его, и протягиваю ей... Без единого слова мы идем вслед за Верой, она направляется к кондитерской, пересекает помещение, проходит вглубь, где помещается касса, просит извинения и платит за пакетик... Кассирша сочувствует... «Ах, мадам, теперешние дети...» Продавщица хочет протянуть пакет, но Вера останавливает ее... «Нет, спасибо...» Она отказывается его взять.
Мы выходим, возвращаемся домой... не помню, на чем мы ехали... но, во всяком случае, молча, не говоря о том, что только что случилось.
Вера, с присущим ей упрямством, которое ничто не может сломить, раз уж она приняла решение, отказывается от роли моей воспитательницы... я никогда не слышала, чтоб отец в чем-нибудь упрекал ее за отношение ко мне, но подозреваю, что это случалось...
— Хотя ты никогда не жаловалась...
— Я никогда не говорила с ним о Вере.
— Почему, интересно... ты ведь ее не боялась...