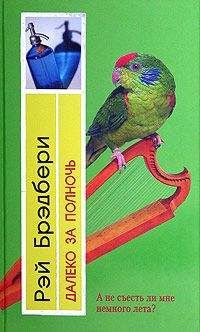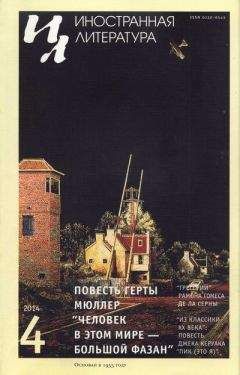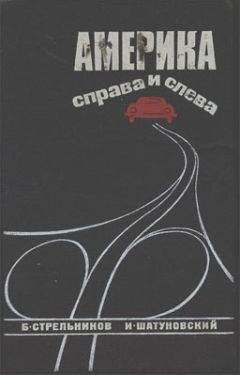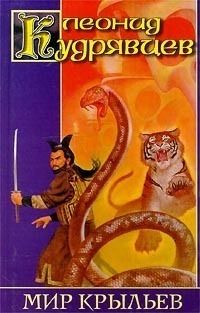Герта Мюллер - Качели дыхания
И насколько же далее?..
Ангел голода каждый день пожирал мои мозги. И однажды поднял мою руку. Этой рукой я чуть не прибил Карли Хальмена. Дело касалось хлебного преступления.
У Карли Хальмена был свободный день, и он уже за завтраком съел весь свой хлеб. Все пошли на работу. Карли Хальмен до вечера оставался в бараке один. Вечером оказалось, что у Альберта Гиона пропал сбереженный хлеб. Пять дней подряд Альберт Гион сдерживал себя, он сумел приберечь пять кусочков хлеба, целый дневной паек. Весь день он проработал вместе с нами на смене и, как все, у кого есть сбереженный хлеб, мечтал весь день о вечернем супе с хлебом. Вернувшись со смены, он заглянул под подушку. Хлеб исчез. Хлеб исчез, а Карли Хальмен сидел в нижнем белье на своих нарах. Альберт Гион встал перед ним и, не говоря ни слова, трижды ударил его кулаком в челюсть. Ни слова не сказав, Карли Хальмен выплюнул на нары два зуба. Аккордеонист Конрад Фонн, обхватив затылок Карли, поволок его к ведру с водой и окунул головой в воду. Изо рта и из носа забулькали пузыри, раздался хрип, и стало тихо. Барабанщик Ковач Антон поднял Карли голову, сдавил ему шею и душил до тех пор, пока рот у того не начал безобразно дергаться, как у Фени. Я отпихнул барабанщика и стащил с ноги деревянный ботинок. Рука у меня тяжело поднялась: я едва не забил хлебного вора до смерти. До этого момента адвокат Пауль Гаст наблюдал за происходящим со своих нар. Но тут он вскочил, запрыгнул мне на спину, вырвал у меня из рук ботинок и отшвырнул к стене. Обмочившийся Карли Хальмен валялся на полу возле ведра с водой, его рвало хлебной слизью.
Жажда убийства затмила мне рассудок. И не мне одному. Мы все были как свора собак. Карли — в обмоченном белье, залитом кровью, — мы выволокли из барака прямо в ночь. Стоял февраль. Его подняли, прислонили к стене барака, но он покачнулся и упал. Не сговариваясь, барабанщик и я расстегнули штаны, потом — Альберт Гион и другие. Мы уже собирались спать, поэтому все помочились Карли на лицо. Участвовал даже адвокат Пауль Гаст. Две сторожевые собаки подняли лай, вместе с ними прибежал охранник. Собаки рычали, чуя кровь. Адвокат и охранник отнесли Карли в больничный барак. Глядя им вслед, мы снегом оттирали с рук кровь. Все молча вернулись в барак и залезли под одеяла. У меня на локте было кровяное пятно. Я повернул локоть к свету и сказал себе: «Какая у Карли ярко-красная кровь, будто сургуч. Слава богу, что из артерии, а не из вены». Никто в бараке не проронил ни звука, совсем близко слышалось шебуршание червяка в часах, словно он шебуршал у меня в голове. Я больше не думал даже про Карли Хальмена и не думал про Фенины бесконечные простыни, не думал даже про недосягаемый хлеб. Я провалился в глубокий, спокойный сон.
Наутро постель Карли Хальмена оказалась нетронутой. Мы, как обычно, отправились в столовку.
И снег лежал нетронутый; он только что выпал и не был красным. Два дня Карли Хальмен провел в больничном бараке. Потом он — с гноящимися ранами, опухшими глазами и синими губами — снова сидел среди нас в столовке. История с хлебом на этом закончилась, все вели себя как ни в чем не бывало. Мы не припоминали Карли хлебную кражу, а он не винил нас за наказание. Он знал, что наказание заслужил. Хлебный суд не судит, он наказывает. Для нулевой черты не существует никаких параграфов, и в законе она не нуждается. Она сама закон, потому что Ангел голода тоже вор, он крадет мозги. Хлебная справедливость не знает никаких «до» и «после», она всегда в настоящем. Она прозреваема от начала и до конца, либо от начала и до конца непостижима. Во всяком случае, осуществляемое хлебной справедливостью насилие — иное, нежели сытое насилие. Традиционная мораль для хлебного суда не годится. Хлебный суд был в феврале. В апреле Карли Хальмен сидел на стуле у Освальда Эньетера, в парикмахерской. Его раны зажили, а отросшая борода походила на вытоптанную траву. Я был следующим по очереди, и мое ожидание длилось в зеркале — так же, как у Тура Прикулича, который обычно оказывался за мной. Парикмахер положил свои пушистые руки на плечи Карли и спросил: «С какого это времени у нас нет двух передних зубов?» Карли Хальмен сказал, обращаясь не ко мне и не к парикмахеру, а к пушистым рукам: «Со времени хлебного преступления».
Когда его бороду сбрили, на стул сел я. Это был единственный раз, когда Освальд Эньетер, брея, насвистывал что-то вроде серенады, и из мыльной пены просочилась капля крови. Не ярко-красная, как сургуч, а темнее — как малина на снегу.
Мадонна на лунном серпе[24]
Когда голод пересиливал всё, мы заговаривали о детстве и еде. Женщины говорили о еде подробней, чем мужчины. Но самые подробные разговоры вели деревенские женщины. Каждый кулинарный рецепт у них был минимум в трех действиях, как театральный спектакль. Напряжение нагнетали разные точки зрения на приправы и ингредиенты. Оно стремительно нарастало, когда в начинку, состоящую из сала, хлеба и яйца, кто-то клал половину луковицы, что ни в коем случае нельзя, — только целую, и туда берут никак не четыре, а все шесть зубчиков чеснока, причем лук и чеснок не просто крошат, а натирают на терке. Напряжение усиливалось, когда панировочные сухари оказывались предпочтительнее хлеба или тмин — пикантнее перца; но майоран, как ни крути, всему голова, он даже лучше эстрагона, который подходит для рыбы, а вовсе не для утки. Спектакль достигал кульминации в момент, когда начинку нужно непременно проталкивать под кожу, чтобы при тушении в нее просочился подкожный жир, либо наоборот — начинять исключительно брюшко, потому что, дескать, начинка при тушении не должна впитывать подкожный жир. Порой верх брала утка с начинкой по-лютерански, а порой — с начинкой по-католически.
А если деревенские женщины на словах приготавливали лапшу для супа, то не меньше получаса длилось обсуждение количества яиц, способов их взбалтывания ложкой и замешивания теста — и только потом это тесто раскатывали до толщины стекла, умудрившись ни разу не порвать, и оставляли для просушки на кухонной доске. Пока его сворачивали и нарезали, пока лапша попадала в суп, пока суп варился — медленно и спокойно либо быстро и бурливо, — пока его подавали на стол, посыпав полной горстью или щепоткой свеженакрошенной петрушки, проходило, пожалуй, еще минут пятнадцать.
Городские женщины не рассуждали, сколько яиц лучше взять для лапши, они решали, сколько яиц можно сэкономить. Поскольку они всегда и на всем экономили, их рецепты не годились даже как пролог к спектаклю.
Чтобы рассказать кулинарный рецепт, мастерства требуется больше, чем для рассказывания анекдота. В рецепте тоже не обойтись без перчинки, хоть эта перчинка и не смешная. Здесь, в лагере, анекдотически звучало уже вступление: ВОЗЬМИТЕ… Острота в том, что взять нечего. Но как раз это не договаривают. Кулинарные рецепты — анекдоты Ангела голода.
Когда входишь в женский барак, тебя будто прогоняют сквозь строй. Нужно сразу сказать, к кому ты, не дожидаясь вопросов. И проще спросить самому, на месте ли Труди. Пока спрашиваешь, поворачиваешь налево, в третий ряд, там нары Труди Пеликан. Все нары — двухэтажные, с железными стойками, как и в мужском бараке. Некоторые, занавешенные одеялами, подготовлены для вечерней любви. Проникнуть за одеяла я не стремлюсь, мне бы только послушать кулинарные рецепты. Женщины считают, что я слишком робок, потому что у меня раньше были книги. Они себе вообразили, что от чтения становишься деликатным.
Взятые с собой книжки я в лагере не читал. На бумагу был строжайший запрет, и в начале первого лагерного лета я спрятал свои книжки в стене за бараком, засунул их в углубление между кирпичами. После я потихоньку приторговывал. За пятьдесят страниц «Заратустры», пущенных на самокрутки, мне давали мерку соли, а за семьдесят — даже мерку сахару. За «Фауста» в твердом переплете Петер Шиль сделал мне железный гребень, чтобы вычесывать вшей, — отдельный, только мой, гребень. Сборник «Лирика восьми столетий» я съел в виде кукурузной муки и свиного смальца, а тоненького Вайнхебера превратил в пшено. От таких кульбитов не деликатным становишься, а лишь сдержанным. Сдержанно я поглядывал после работы на молодых русских рабочих под душем. Настолько сдержанно, что уже и сам не знал, зачем я на них гляжу. Знай я это, они бы меня прибили до смерти.
Снова я не выдержал. Съел за завтраком весь свой хлеб. И вот я опять в женском бараке: сижу возле Труди Пеликан на ее нарах, с краю. Подошли Две Киски и сели напротив, на нарах Корины Марку. Сама она уже много недель в колхозе. Я рассматриваю золотые волоски вокруг бородавок на худых пальцах обеих Кисок и рассказываю о детстве, чтобы не начинать с разговора про еду.
Каждое лето мы уезжали из города на долгие летние каникулы. Мы — это моя мать, я и наша работница Лодо. У нас была дача в Венхе, напротив горы Шнюрляйбль. Мы проводили там восемь недель. И довольно часто выбирались в Шесбург — ближайший город. На поезд мы садились внизу, в долине. Станция называлась по-венгерски Хетур, а по-немецки — Зибенменнер. На крыше вокзальчика звякал колокол: это означало, что из Данеша поезд уже отправился. Через пять минут он появится здесь. Перрона никакого не было. Когда подкатывал поезд, нижняя вагонная ступенька оказывалась на уровне моих плеч. Прежде чем мы садились, я разглядывал вагон снизу: черные колеса с блестящим ободом, крюки, цепи, буфера. Потом мы проезжали мимо купальни, мимо домика нашего соседа Тома и мимо поля старика Захариаса. Раз в месяц мы вручали ему две пачки табаку в качестве дорожного мыта, потому что ходили через его ячмень купаться. Дальше — железнодорожный мост, под ним бурлит желтая вода. Выветренный песчаник скалистого берега, у самого обрыва — пансионат «Вилла Франка». Это уже начинался Шесбург. Прибыв в город, мы сразу же отправлялись на Рыночную площадь, в элегантное кафе «Мартини». От завсегдатаев кафе нас отличала вольность в одежде. На матери была юбка-брюки, на мне — короткие штаны и серые немаркие гольфы. Одна Лодо наряжалась как на деревенский праздник — в белую крестьянскую блузку и черный головной платок с розами по краю и зеленой бахромой. Алеющие розы на платке были величиной с яблоко, больше настоящих. В этот день мы могли есть всё что пожелаем и сколько влезет. У нас был выбор между марципановыми трюфелями, «головой мавра», «саварином», эклерами, ореховым рулетом, блинчиками с мармеладом и шоколадными пряниками «Ишлер» или между миндальными крокетами, ромовым тортом, наполеоном, нугой и анисовым бисквитным печеньем. После — мороженое: земляничное в серебряных вазочках или ванильное в стеклянных, но, конечно, в любом случае со взбитыми сливками. А под занавес, если хватит сил, — черемуховый пирог в желе. Руки мне щекотал холодок мраморной столешницы, а подколенные ямки — мягкий диванный плюш. Вверху, на черном буфете, раскачивалась под вентиляторным ветром Мадонна в длинном красном платье, упираясь пальцами ног — самыми кончиками пальцев — в молодую, очень молодую луну; то была Мадонна На Лунном Серпе.