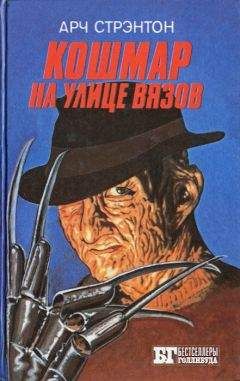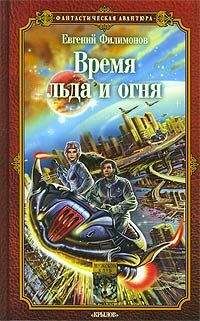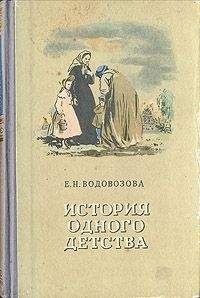Давид Гроссман - См. статью «Любовь»
…Аарон Маркус, объявив войну ограниченности и бессилию человеческих чувств, предстает перед нами решительным и бескомпромиссным, даже опасным борцом. С самого начала ему было ясно, что вся беда тут, весь грех в изъянах нашего немощного, убогого языка, про который кто-то сказал, что он страдает слоновой болезнью: люди приучены чувствовать только то, что уже обозначено, что можно назвать по имени, и, если натыкаются на иное переживание, сильное и неведомое, застывают в растерянности, не знают, что с ним делать, и отодвигают его в сторону, или согрешат перед ним тем, что смешают с каким-нибудь другим чувством, уже получившим название в человеческом языке, запечатленном в слове и знакомом им. И таким образом — из-за лени и халатности, а может, и от страха — лишат его первозданного значения, собственного неповторимого характера.
Маркус: Не услышат его призыва. Его требования. Не различат заключенной в нем утонченности и неги, но также и опасности.
Изучив многие языки, он понял, что люди, умеющие изъясняться лишь на одном из них, вообще не знакомы с некоторыми нюансами ощущений, прекрасно известными тем, кто владеет несколькими наречиями.
Примечание редакции: Чтобы пояснить это утверждение, приведем в пример сравнительно новое в иврите слово тискуль — «удрученность», «фрустрация», чувство собственного бессилия перед неизбежным поражением, гнетущего напряжения и безысходности. Слово это впервые появилось в наших толковых словарях только во второй половине семидесятых годов, и в самом деле, пока оно не утвердилось в разговорной речи, люди, не владевшие никаким языком, кроме иврита, никогда не чувствовали себя бесконечно подавленными и удрученными, неспособными изменить свою жизнь к лучшему. Они могли быть озлобленными, разочарованными, ощущали некую досаду по поводу своей невезучести, но не примеривали на себя всю совокупность горьких оттенков той печальной эмоции, которая выражается словом тискуль. В то же время счастливцы, владеющие английским, гораздо раньше познали всю ужасную остроту этого болезненного состояния, поскольку умели обозначить его словом prostration. В этом отношении интересно рассуждение чешского писателя Милана Кундеры относительно слова литость. Он утверждает, что это слово его родного языка невозможно перевести ни на какой другой язык. Оно вызывает ощущение бесконечности, как мягкие растянутые меха аккордеона, и передает многие оттенки горькой неутолимой печали: прежде всего, мучительное состояние, порожденное видом собственного, внезапно обнаруженного убожества. Затем литость — это жажда мести, которая неизбежно следует за ощущением страдания. И наконец, литость никогда не обходится без патетического лицемерия. В своей «Книге смеха и забвенья» Кундера говорит: «Для смысла этого слова я напрасно ищу соответствие в других языках, хотя мне и трудно представить себе, как без него кто-то может постичь человеческую душу». Ученый фармацевт из Варшавы также утверждал, что в связи с удручающей скудостью нашего языка и ограничениями его аппарата люди вынуждены довольствоваться в каждое данное мгновение одним-единственным ощущением, и уж самое большее двумя, грубо втиснутыми в оболочку одного слова. По его мнению, это напоминает беседу двух людей или монолог одного, в которых все слова состоят из одного слога. Нищие, щуплые, худосочные, предательские слова, тупые тюремщики великого богатства, сочного и живого, кишащего десятками или даже сотнями безымянных эмоций, едва различимых ощущений, первобытных угнетенных инстинктов, диких неизведанных наслаждений.
Найгель, с тяжким стоном:
— Пусть себе там и остаются. Так лучше.
Маркус: Нет-нет, любезный герр Найгель! Ведь это уклонение от исполнения своих обязанностей и, может, извините меня, даже трусость, скажем так. Ведь у нас имеется ответственность (см. статью ответственность) перед людьми.
Настоящие серьезные эксперименты провизора в области чувственного восприятия начались в тысяча девятьсот тридцать третьем году. Вассерман уточняет и поясняет:
— Тридцатого числа, в январе месяце тридцать третьего по гражданскому летоисчислению он впервые начал исследовать печаль.
По словам Вассермана, записи Маркуса тех дней свидетельствуют о его несомненной жертвенности, готовности принести себя на алтарь науки. Поначалу он еще верил, что может заниматься своими исследованиями в определенные отведенные для этого часы, которые установит для себя по собственному разумению. Он все еще относился к этому занятию, как к любопытному увлечению. Но очень скоро понял, что имеется только один путь сделать что-либо как полагается: жить этим.
Вассерман:
— Если бы ты видел этого по природе своей оптимистичного и жизнерадостного человека, последовательно и прагматично погружающегося в глубокую печаль, — ой-ой-ой, милые его нежные глаза выглядели в те дни как глаза несчастной лошади, неумолимо погружающейся в топкое непролазное болото. Если выразиться точнее, он намеренно опечалил себя, чтобы исследовать изнутри этот мрачный склеп, очистить от случайных наслоений, заново пробить подземные ходы, закупорившиеся из-за долгого неупотребления, и дать всему этому новые имена.
Так Маркус приступил к созданию своего «сантимо», нового словаря в области эмоций, приступил, полный благородных намерений, но, возможно, отчасти просчитался. На поверку язык этот оказался весьма примитивен. По словам Вассермана, он представлял собой пеструю смесь букв и чисел и всяких тайных обозначений, которые ни один человек, кроме самого фармацевта, не мог понять.
Вассерман:
— Ай, герр Найгель, памятны мне те тяжелые дни, которые пришли вслед за кампанией грусти: погружение в самое сердце страха, которое провизор проводил в течение трех лет, между тридцать пятым и тридцать восьмым, и потом одиннадцать лун, в которые опустился в глубины всех видов и оттенков унижения, между ноябрем тридцать восьмого и сентябрем тридцать девятого, и еще наряду с этим проводил дополнительные эксперименты, как писатель, сочиняющий большой серьезный роман и параллельно зарабатывающий на жизнь какими-нибудь статейками или сказками, эдакими небольшими шалостями пера, подобными щепкам, отскакивающим от полена. Ох это его пугающее погружение в пучину безответности и беззащитности — ну и что дальше? Велико было его самоотвержение, когда бросил он себя в пропасть отвращения и нашел там — кто бы мог поверить? — семнадцать различных оттенков между омерзением и брезгливостью.
Похоже, что в те дни начало несколько меняться направление исследования. Факт, что в феврале месяце тысяча девятьсот сорокового, когда Отто Бриг (см. статью Бриг) впервые натолкнулся на него на улицах гетто, ученый занимался тем, что старательно вылизывал языком сапоги двух офицеров Ваффен-СС.
Вспоминает Отто: При этом он улыбался, наш господин Маркус, под носом у этих мерзавцев улыбался и выглядел вполне счастливым, как будто только что утащил персик из теплицы у настоятеля монастыря. Разумеется, я тут же понял, что он один из наших.
За большие деньги Отто выкупил Маркуса у издевавшихся над ним эсэсовцев (по всей видимости, готовых уже прикончить его) и привел в зоосад. По дороге Маркус разъяснил ему сущность своих опытов, и вследствие этого Отто понял также значение радужной, прямо-таки небесной улыбки, сиявшей на лице исследователя во время описанного выше инцидента.
— Нет времени! — воскликнул тот взволнованно. — В оставшиеся мне месяцы я хочу удостоиться вкусить и капельку удовольствия. Поэтому теперь — счастье.
Вассерман полагает, что в те дни, когда гетто было погружено в безысходный мрак и отчаянье, аптекарь Аарон Маркус исключительно силой своего духа «уравновешивал чаши страдания и счастья, потому что, если бы они не находились в равновесии, пропали бы мы все и все пропало…». Вместе с тем необходимо отметить, что провизор и в этот период подвергал себя множеству опасностей.
Вассерман:
— Подобной тому волнующему, стремительному нырку в глубины жалости. Ну что? И той увлеченности — достаточно безответственной, должен сказать я тебе, друг мой Маркус! — готовности отдаться на волю волн, которым надлежало вынести его к берегам надежды, да, как раз, вот именно, что как раз в разгар тех событий задумал он исследовать надежду… И какие терзания претерпел вследствие этого! Но не отступил ни перед чем и одолел свой путь, хотя вынужден был продвигаться медленно, осторожно, сквозь враждебные джунгли сбивчивой и ненадежной информации и всю путаницу нашего сенсорного опыта. Вооруженный единственно внутренним зрением, которое сумел развить и истончить до степени чуткости усиков бабочки и сделать острым, как бритва, бесстрашно двигался к цели. Сортировал чувства, и оттенки чувств, и отзвуки чувств по форме и размеру на могучие стволы, крупные ветви и малые побеги, на волокна и нити, присваивал каждому виду наименования, как первый человек в райском саду, и, честное слово, герр Найгель, не постигаю, как это он сохранился в здравом уме, не помешался от всего этого! Лицо его, всегда такое милое, младенчески нежное, умиротворенное лицо прекрасного, безгрешного человека, ужасно постарело. Сначала почернело, как сажа, но после снова просветлело, и тогда мы увидели, что случилось с ним, потому что выяснилось, что весь этот эксперимент, все погружение в бушующую стихию ментальности оставили на нем неизгладимый след, глубокий незаживающий шрам, неистребимую мету. Ай, таков жребий одинокого созидателя, у которого нет рядом никого, кто бы разделил с ним опасности, понимаешь ты, герр Найгель, одинок должен быть подобный подвижник, сам должен испытывать каждый нюанс нового ощущения, и только тогда успокоилась душа его, когда завершил он свои поиски и увидел себя достойным составить полный отчет и подписать своим именем.