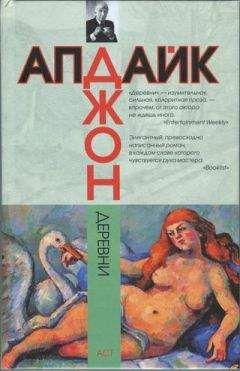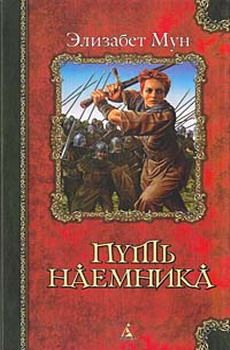Герман Кант - Актовый зал. Выходные данные
— О да, двигаться здесь можно, — подтвердил Давид.
— Но глоток-другой воздуха мне не помешает, — продолжала Фран и вышла с ним в коридор.
Распахнув окно и тесно прижавшись друг к другу, они выглянули на улицу.
Там почти все стихло, только танковый дизель кашлял где-то неподалеку.
— Провалиться мне на этом месте, — воскликнул Давид, — раз Фриц Андерман не сидит на родине Мольтке, то где же быть Василию Васильевичу Спиридонову? Раз противник Мольтке в Берлине, то не окажется ли друг Мольтке в Берлине? Вполне возможно! Возможно, он командует здесь танками, возможно, его башкир ведет один из них, надымив полный танк. Вот когда ему поневоле вспомнится теория насчет «гадов немцев»! А что на это скажет Василий Васильевич? Ох, представь себе: может, он сидел начальником гарнизона в Нейруппине у Теодора Фонтане или во Франкфурте-на-Одере и там тоже организовал драмкружок, собираясь ставить Клейста с новым Ваней — принцем Гомбургским. Представь только себе, тут его и вызывают к телефону: Василий, садись в танк, двигай опять в Берлин, немец, знаешь ли, все еще ничего не понял. И Василий говорит: пошли, Ваня, отложи прекрасную драму, возьми автомат Шпагина, садись в танк — они думают, у них опять завелась стратегия. Натали придется подождать!
Надеюсь, ох, Фран, как я надеюсь, что восемьдесят километров до Берлина — достаточно долгий путь, чтобы Василий Васильевич успел выложить весь запас проклятий и успел понять: восемьдесят этих километров совсем не то, что могло ему показаться сгоряча, эти километры не продолжение того долгого пути, который начался в деревне под Ростовом. Мольтке Фрица Андермана действительно всего лишь памятник, а стратегию на нынешних улицах измыслили совсем другие головы. Ох, я надеюсь, я думаю, нет, я уверен, он понимает: могила, что вырыта нынче в Берлине, вырыта очень, очень длинной рукой, и задумана она необъятных размеров. Случай представлялся удобный, да и мы, видимо, не без вины, нам нужно было раньше видеть, что надвигается, плохо, что у нас глаза открылись только на краю могилы, теперь-то я знаю, кто ее вырыл, а надо бы знать еще вчера или сегодня в обед, надо бы прислушаться к выкрикам, надо бы присмотреться к именам на транспарантах, и я бы понял, кто вырыл нам эту колдобину, и не только затем, видимо, чтобы мы страху научились.
Глядя на фотографию, что под номером двадцать четыре, я понял — на ней запечатлен человек, который все увидел, Фриц Андерман, он уже утром знал, что полетело бы в ту могилу: все, что за восемь лет здесь изменилось, и все те, кто эти изменения осуществил, — Андерманы и Иоганны Мюнцер, Майеры и Габельбахи, Гроты и Греве.
Восьмое мая скинули бы туда, и седьмое октября, и наше знамя, что колет им глаза, когда они смотрят сюда из дворца Бельвю. Теперь, однако, я уверен, у них ни черта не выйдет.
Фран еще раз глубоко вдохнула июньский воздух, закрыла окно и сказала:
— Не знаю, что нам предстоит, но нынешний день мы не забудем. Я даже предвижу, что попаду в глупейшее положение — наступит эта дата, люди станут хмуриться, а я, конечно же, подумаю: что ж, у нас есть все основания хмуриться, но уж будьте добры, позвольте мне весело подмигнуть, у меня есть свои основания: жил-был человек, я его очень любила — не спрашивайте почему. Но потом он ушел, надолго, очень надолго — не спрашивайте почему. И вот случилась как-то мерзкая заваруха, вы, надеюсь, помните почему. С того дня тот единственный снова со мной, а потому я не в силах хмуриться. Вам надо его узнать, и вы поймете почему.
— Э, нет, — воскликнул Давид, — расскажите, будьте добры, почему?
— Да потому, что этот человек изобличает лживость законов развития; ведь с ним мне невольно приходит в голову: хоть через сотню лет его встреть, а все та же сумасшедшинка, та же почти сумасшедшая серьезность, то же забавное фанфаронство, та же нежность, выходящая за пределы привычной, да, да, в этом я уверена, те же воздушные замки, тот же самобытный ум, вообще, до ужаса тот же самый Давид Грот, с головы до пят тот же самый, к великому счастью!
— Такой это человек? — переспросил Давид.
— Да, — подтвердила Фран, — это такой человек! И еще одно надо сказать — он начисто позабыл, что у него собрание.
— Боже, — вскричал Давид, — горе мне! И этой самой штуки, этой концепции, у меня нет!
Давид припустил по коридору, а Фран крикнула ему вслед:
— Да есть, как раз есть!
13Криста в который раз требовала ясности — секретарь она редактора, или архивная крыса, или, того более, телефонистка, она добрых два часа убила на постороннюю работу, выясняя имя какого-то английского скульптора, кстати, не повторить ли ей вкратце замечания его друзей, услышавших, что главный редактор Грот на кладбище.
— Ладно, Криста, знаю, мои друзья языкастые люди. Почему же ты не позвонила Иоганне Мюнцер, если нужен скульптор? В ее пенсионной жизни великая радость, если она в силах помочь.
— Дома не было. Домработница сказала, что приезжал Франк, этот, из высших инстанций, и Иоганна в ярости уехала к какому-то министру.
— Экспансивная дама, — сказал Давид, — а ярость, что ж, ничего нового. Дай-ка мне папки с делами на завтра. Голова у меня битком набита могильными плитами, и настроение мрачное, охоты нет домой таким возвращаться.
— В почте лежит извещение о смерти.
— Вынь его, отложи, видеть не могу, терпеть не могу, не переношу, нет, нет!
Криста пропустила всю тираду мимо ушей, и Давид сел за папки. «Привет тебе, жизнь!» — едва не воскликнул он, но столь радужное настроение тут же насторожило его.
И все-таки дела — признаки жизни, свидетельства совершающихся процессов, а не их неизбежного конца, он рад делам, ибо, столкнувшись с ними, человек освобождается от мрачных мыслей и начинает действовать.
Но письмо, лежащее сверху первой же пачки, было в черной рамке, конверт со штампом Совета Министров.
Искушение сунуть его в папку приказов, жалоб и запросов было результатом своего рода суеверия или трусости: о чем не знаю, о том сердце не болит. Итак, нужно прочесть скорбную весть.
Вот это удар под ложечку, как гром среди ясного неба: «Гергард Риков… на сороковом году жизни… после продолжительной болезни… надолго сохраним память о нем…»
Хотелось протестовать, кричать: «Не желаю верить, произвол, злая шутка, запрещенный прием, целиком и полностью недопустимый, целиком и полностью несправедливый, жуткая ошибка, недоразумение, скажите же, скажите, пожалуйста, что это недоразумение!»
С Гергардом Риковом такого не может быть, нет, с ним нет, с Давидом Гротом тоже такого не может быть, нет, с Давидом Гротом тоже не может.
А почему, Давид Грот? Почему не может быть с Гергардом Риковом? Ты что, читать разучился? Там сказано: Гергард Риков, на сороковом году жизни. Конец, черная рамка, тридцать девять лет от роду, там все сказано.
Да, я знаю, я вижу, но это гнусно, это чертовски гнусно. Ах, какое же это несчастье!
Давид понимал, несчастье его одолеет, если он поддастся ему. Оно его скрутит, парализует и вгонит в гроб. У этого несчастья есть все основания почувствовать свою власть, ибо смерть Гергарда Рикова дает полное основание ощутить себя несчастным. Границы несчастья велики: от скорби по Рикову до скорби по Гроту, Гергарду Рикову под сорок, Давиду Гроту сорок с лишним, получается пара, вполне возможна путаница и сдвиг от страдания к самосостраданию.
Давид отложил извещение подальше, на самый край стола. За работу! Как ты назвал дела в папке? Признаки жизни — эх ты, глупец, вот уж в самую точку попал! Ну ладно, кончай и давай начинай, о чем там первое опровержение?
Опровержение по вполне земному и очень жизненному вопросу из статс-секретариата одного министерства в связи с репортажем и опрометчивой критикой, опубликованной в НБР:
«В технологии производства пластиковых пакетов для молока имеются, как и нам известно, еще кое-какие изъяны, однако вы непозволительно сгущаете краски, с нашей точки зрения. Прессе следует, по нашему мнению, помогать своей критикой, но не перегибать палку…»
А мы перегнули? Посмотрим очерк, нет, думаю, товарищ статс-секретарь, мы наверняка и половины не высказали того, что говорили на днях утром домохозяйки в молочной. Может, они, по-твоему, и перегибают палку, товарищ статс-секретарь, эти домохозяйки, они не стеснялись в выражениях, уважаемый товарищ, а повод был пустячным — подумаешь, из кошелок, набитых хлебом, мукой и мясным фаршем, им на чулки капало молоко.
«Если процент брака верен, — черкнул Давид на уголке, — опровержение не принимать. Если недостатки успели устранить, найдем возможность показать. С приветом. Г.».
Как-нибудь загляну в словарь, откуда это выражение: перегибать палку. Подозреваю, оно возникло совсем в другом смысле, чем мы употребляем. Мы употребляем его, чтобы лишить то или иное дело гибкости, например критику: если мы докажем, что, критикуя, перегибаем палку, значит, критика ни черта не стоит. На каждый яд находится противоядие, и пары эти не всегда соотносятся как минус и плюс; на критику не ответишь простым «нет»; кто хочет от нее избавиться, должен прежде всего сказать ей «да» и только после этого может ее пресечь, заговорив о перегибе палки.