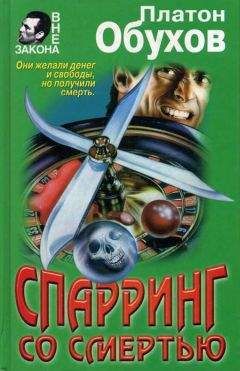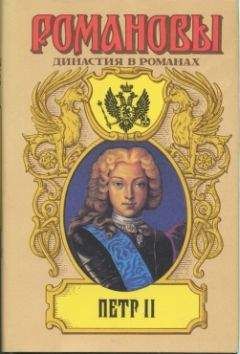Петр Проскурин - Отречение
Пал Палыч открыл дверь арестантской — совершенно глухого, сложенного из толстых лиственничных бревен квадратного помещения, с потолком и полом из тесаных плах; ни нар, ни стола, ни табуретки не было, лишь на полу в одном из углов лежало старее, превратившееся в труху сено. Недалеко от двери стоял для нужды жестяной бак с дырявой крышкой. Пал Палыч внес в арестантскую две табуретки, всегда стоящих для таких случаев у двери снаружи; на одну из табуреток Пал Палыч хозяйственно утвердил фонарь, на другую уселся комиссар. Арестант, как только дверь открылась, сел на истертое сено, протирая глаза и жмурясь на свет фонаря, больно ударивший по глазам; комиссар, твердо уставивши руки в колени, вперил в него пристальный взгляд. Подумав, арестант Коржев медленно поднялся, притулившись плечом к стене, глядел куда-то между Пал Палычем и комиссаром. В арестантской держался теплый, душноватый дух человеческих нечистот; бушевавшая метель за толстыми стенами, кое-где в пазах уже слегка заиндевевшими, здесь чувствовалась глуше.
— Ну что, Коржев, не вспомнил? — спросил он, не повышая голоса. — Все-таки сыновья, жалко… А работать кто будет?
— Да за что они обязаны на тебя работать? — в свою очередь спросил арестант. — Кто ты им такой, нашел ты их, а может, купил? Им-то еще до шестнадцати расти да расти, а ты уже запряг, развалился — вези его… заботничек ты наш, кормилец… не думай, ничего не скажу, я сынам не злодей.
— Наконец своим языком заговорил, кулацкая порода проступила, — почти с удовлетворением подытожил комиссар Тулич, оглядываясь на Покина, и мутный осадок жалости вновь поднялся в нем. — А ведь напрасно, Коржев. Против Советской власти никто не устоял, ты тоже не устоишь. Пал Палыч, только в меру, он у нас еще должен отработать положенное.
Весь подобравшийся, Пал Палыч с еще более ласковым выражением, легкими, неслышными шагами тут же оказался возле арестанта. Неуловимым движением он заломил ему руку за спину, дернул как-то легонько ребром ладони, казалось, едва коснулся предплечья арестанта, но тот тотчас подломился, с тяжелым хрипом рухнул па колени, и кровь отхлынула от лица — даже через густую темную щетину у него проступила меловая белизна. От вторичного мастерского удара почти в то же место и затем ниже — в ребра Коржев ткнулся лицом в пол, ноги у него конвульсивно задергались, во рту появился солоноватый привкус крови. Царапая пальцами по полу, елозя по нему головой, стараясь не закричать от острой боли, он некоторое время судорожно мычал. «Вот люто дерется, вражина, — думал он больше с изумлением, чем с ненавистью. — Совсем не по-людски, не по-нашему как-то дерется, гад такой».
С тем же приятным выражением лица, в осознании мастерски выполненного важного дела, Пал Палыч, вопрошающе глядя на комиссара, не ожидал, что арестант очухается так быстро. Вертанувшись на животе по полу, мгновенно изогнувшись, Коржев ловко рванул Пал Палыча за ноги, и тот, не успев опомниться, с размаху ударился головой о стену и тоже оказался на полу. Арестант, намереваясь опрокинуть мимоходом табуретку с фонарем, рванулся к двери; тут его и настиг сам Тулич, привычно хрястнув рукояткой маузера позади уха, и теперь, стоя над вторично повергнутым арестантом, раздувая тонкие ноздри, быстро дышал. По-хорошему надо было бы пристрелить чересчур строптивого и прыткого мужика, и у Тулича даже дернулась рука, тяжелая рукоятка маузера плотно легла в ладонь; глаза сузились. Дело решил простой расчет. Пристрелить этого мужика значило признать в завязавшемся с ним поединке свое нравственное, духовное поражение; кроме того, перед ним лежали будущие кубометры необходимой государству древесины, ради которых, собственно, он и находится среди этой мужицкой орды, должной стать послушной и стройной ратью; нет, нет, необходимо быть выше рабских эмоций, свойственных низшему сознанию, его дело заставить этого мужика работать, приносить будущему пользу. Черный обруч стал отпускать виски; прислушиваясь к нестихавшему неистовству снежной бури, Тулич щелкнул крышкой именных часов; уже два часа — на лесосеках время короткого обеда. Глухие и прочные, вековые стены дома отделяли его от неугомонной стихии, и, надо полагать, первый рабочий день на лесоповале пропадет даром, сидят по землянкам, давят тараканов. Раков тешится себе с девчонкой, счастливый характер, ему наплевать на кубометры, на план, на мировую революцию и на все прочее; придумал себе пустяковую простуду и отлеживается в теплой постели. Но и это будет в свое время оплачено сполна.
Первым очнулся Пал Палыч, зашевелился, завозил головою, стал вставать, стараясь не терять из виду комиссара и постоянно поворачивая к нему большое мучнистое лицо; Тулич брезгливо поморщился.
— Ну, ну… надо осторожнее…. не ожидал от тебя…
— Ей-ей, первый случай в жизни… ну, бандюга, — изумился Пал Палыч и шагнул было к арестанту. Тулич тут же остановил его, и Пал Палыч, укоризненно покряхтывая, стал бережно ощупывать свою голову. Уже думая завести от скуки с оплошавшим сослуживцем поучительный разговор о необходимости постоянно совершенствовать профессионализм, Тулич не успел. Живучий арестант очнулся, неловко подвернутая нога его подергалась, он сел и, окончательно приходя в себя, сразу же наткнулся взглядом на комиссара, тихая, глубокая, откровенная ненависть светилась в его глазах. Тулич внутренне подобрался — к сильным натурам, даже вражеским, он относился с уважением.
— Уж прости, братец, — укоризненно, как равный равному, сказал он, вызывая тем самым нехороший осадок у Пал Палыча, вполне пришедшего в себя. — Ты вот только о себе думаешь, а мне приходится сразу обо всех думать, о тебе в том числе. Я по-другому не мог тебя остановить, я тебя спас. Ты хоть понимаешь это? Погиб бы, куда бежать? И других бы, честных, невиновных людей подвел. Я ведь уверен в тебе, немножко отойдешь, сам придешь к нужному выводу. Правда, говорят, ты на деляне вокруг костра представления устраиваешь, пляшешь, дым столбом?
— Подлятина ты, комиссар, — сказал арестант, стараясь успокоить дергавшиеся губы, из-за уха сзади и сбоку по шее у него расползлось темное пятно крови; арестант пощупал, посмотрел на свою ладонь, вытер ее о штаны. — Жизнью меня, значит, одариваешь, заботничек? А ты моего согласия спросил? На такую-то жизню?
— Зачем? Не спрашивали тебя и спрашивать не буду, — в прежней примирительной интонации ответил Тулич. — Народу твоя жизнь нужна, вот он и будет решать. Ты, вот лично ты один мог бы исчезнуть, но ведь пример, пример! Сегодня твои сыновья сбежали, завтра другие сбегут, если на первый случай махнуть рукой?.. Против тебя лично у меня совершенно ничего нет, посиди здесь еще, подумай. Ребята твои далеко не могли уйти, знаешь ведь, куда они рванули. Все равно найдем.