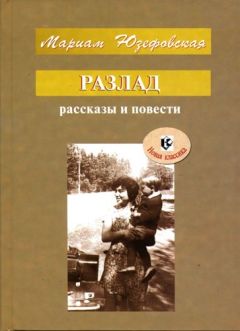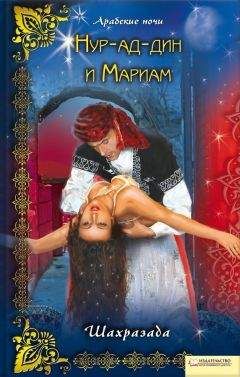Захар Прилепин - Обитель
Артём пожал плечами. Удивительным было и то обстоятельство, что этот человек говорил о себе так, словно на Соловках сидел он один, а, к примеру, все остальные здесь находящиеся — как бы и нет; и то, как Моисей Соломонович изменился за прошедшее время: Артём помнил его непрестанно поющим, блатные называли его «опереткой» — кто бы мог подумать, что «оперетка» окажется способен к столь широким обобщениям.
Артём достал хлеб, оставшийся от кормления крысы, и скатал пяток шариков себе. Отправлял их в рот по одному.
— А какое тут было хозяйствование — вы и сами понимаете? — и собеседник смотрел на Артёма поверх очков, Артём же думал, что Моисею Соломоновичу нет никакого дела до того, понимает он или нет, а просто нужно правильно расставить слова в своей речи. — Иначе здесь и не могло случиться: всеми производствами руководили бывшие белогвардейцы, каэры, всюду, простите, попы — как будто нарочно всё так подстроили, что отдали хозяйствование в самые ненадёжные руки. Я товарищу Эйхманису докладывал об этом, направлял записку. Просил на допросе, чтобы эту записку нашли и подшили к делу, но… там сейчас много дел и без меня.
Моисей Соломонович долго, хотя несколько путано, описывал производственную соловецкую круговерть, подробно объясняя, как было провалено кирпичное дело: материк вернул тонну соловецкого кирпича, потому что тот оказался непригоден для стройки, — и кирпичное дело пытались спасти за счёт неразумного лесопользования, избыточные доходы которого шли на многочисленные питомники, куда товарищ Эйхманис привозил редких зверей, впрочем, как правило, отказывавшихся размножаться в неволе… Обувная фабрика выпускала брак, соловецкий журнал с подпиской по всей стране оказался убыточным, даже объёмы рыбной ловли — и те упали…
— …Это не хозяйствование, а череда провалов! — всё более горячась, утверждал Моисей Соломонович, как-то по-особенному, округло, выделяя букву «в».
— Врёшь! Врёшь! Многое было сделано, контра. Тебя бы первого хлопнуть надо! — глухо пролаял сверху Горшков, подслушавший разговор.
Моисей Соломонович стремительным движением снял очки. Он будто верил, что если ему без очков видно плохо — то и его самого не заметят.
Горшков торопливо слез с верхних нар, желая потрясти Моисея Соломоновича за грудки, но увидел Артёма, который только и дожидался чего-нибудь такого, и просто выложил свои матерные запасы, ругаясь гадко, обильно, натужно.
Артём слушал, раскрыв рот, а потом начал кривляться лицом, дразня Горшкова и как бы дирижируя его речью при помощи гримас, языка и носа.
Горшков, побагровев, устремился к дверям, будто собираясь уйти. Погрохотал своими костями там о железо и, кося припадочным глазом, вернулся назад, к маленькому зарешеченному окошку, до которого не доставал: пытался надышаться.
Ещё несколько минут от Горшкова во все стороны шёл жар: как если бы он был кастрюлей с кипящим, но уже прокисшим борщом.
Моисей Соломонович пересел на место отсутствующего Кучеравы и затаился.
…До ужина Артём подрёмывал: ему всё время снилась холодная, просоленная вода, и он испытывал ровное и тёплое удовольствие от того, что больше никуда не плывёт.
— А чего Кучерава? — спросил Ткачук надзирателей, внесших чан с баландой. — Отпустили?
— Кучераву закопали уже, — ответили ему.
Все замолчали.
За минуту словно бы изменилась температура в камере.
Ели медленно, стараясь не издавать никаких звуков.
Кончились любые разговоры, каждому осталось его тягостное одиночество.
У Санникова длинно запели в животе кишки.
Артём вдруг понял, что у него тоже кончились силы на злорадство. Его вдруг охватило мутное томление.
Сначала дожидался своей очереди на Секирке — но там всё ясно: дальний изолятор, простые лагерники — кому они нужны, выкоси половину, новые вырастут. Но теперь попал сюда — и всё заново.
Кто мог предположить, что администрацию тоже будут отщёлкивать.
…Артём лежал, и тело его маялось. Появилось ощущение, что кости стали ломкими, слабыми — ничего такими руками не схватишь, далеко на таких ногах не уйдёшь, шея голову не держит.
Он улёгся набок, лицом к стене — с намерением уснуть, но лежал бессонно, скучно уговаривая себя: может, всё-таки встанешь? Ещё как-то поживёшь? Насладишься напоследок?
Всё это было глупо: насладиться — чем насладиться? Брожением по камере среди дурно пахнущей мрази?
«Неужели тебя зароют с ними заодно, Артём? В одну могилу? У нас будут общие черви?» — спрашивал себя непрестанно.
Он думал, что хоть тут, среди чёрных околышей, всё будет понарошку, а оказалось — и для них всё по-настоящему.
«Сколько же раз меня убивали? — слёзно жаловался Артём. — Не сосчитать! Меня зарезали блатные. Меня сгноили на баланах. Меня забили насмерть за чужие святцы. Меня закопали вместе с заговорщиками. Меня застрелили на Секирке. Меня затоптали лагерники, не простив изуродованный лик на стене. Меня ещё раз застрелила в лодке Галина. Меня утопило море, и то, что мама гладила по голове, съели рыбы. Я медленно умер от холода и от голода. С чего бы мне опять умирать? Больше нет моей очереди, я свою очередь десять раз отстоял! Господи!»
Не увидел, не услышал, а каким-то озверевшим чутьём почувствовал, что опять вернулась крыса. Открыл глаза: да, тут.
Хлеб с ужина был при себе — Артёму вообще есть не очень хотелось последние дни: он питался по привычке, впрок, не думая, хочет или нет.
Бросил крысе весь кусок: жри, тебя-то никто не расстреляет.
Закрыл глаза. Крыса разумно управилась с угощением: что-то съела, остальное унесла.
Артём слышал её копошение, но глаза не открывал.
Мысли его начали путаться, он засыпал на минуту-другую-третью, вздрагивал, просыпался, открывал глаза, пытался вспомнить, о чём только что думал, ничего, ничего, ничего не помнил…
…В очередном мгновенном сне вдруг увидел сам себя сверху: он был обнажён — хотя так и спал в тюленьей куртке и ватных штанах, от жары не уставая.
«Надо возвращаться назад, сейчас моё тело проснётся», — просил себя Артём и старался упасть в свою плоть, в свой скелет, неловко валясь спиной назад, рискуя не попасть, промахнуться, — одновременно ему мешало и мучило другое кромешное ощущение, он никак не мог рассказать о нём вслух, будто на этих словах окончательно онемел.
Наконец, совершая неимоверные усилия, сказал, выдавливая из себя, как из камня, каждое слово:
— Бог здесь голый. Я не хочу на голого Бога смотреть.
Бог на Соловках голый. Не хочу его больше. Стыдно мне.
…Упал в собственное тело, очнулся, поймал себя на том, что видел не Бога, а собственного отца — голым — и говорил о нём.