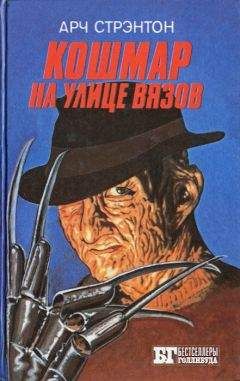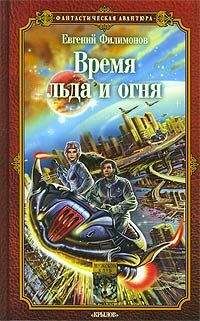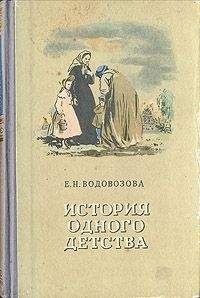Давид Гроссман - См. статью «Любовь»
— Ну, ты сам понимаешь, Вассерман…
…тем не менее ответил: «Как хочешь, Тина. Все будет, как ты скажешь».
Потому что, по его словам, уже заметил, что женщины имеют такое обыкновение — останавливаться иногда на полдороге, как будто путаются. Приблизившись вплотную, готовы вдруг отпрянуть назад, будто спасаются от взрыва…
— И Тина моя хоть и родилась в Баварии, а в таких делах у нее повадки настоящей уроженки Рейна: все осторожно, понемножку и с нежностью, с благородством и не спеша.
Найгель позволяет ей высказать все, что она носила в душе все эти долгие месяцы, а сам не произносит ни слова. Она говорит и водит тоненьким пальчиком по простыне, почти касается его ноги. Выплескивает из себя мучительные слова, высвобождается от тяжких переживаний. Вспоминает о потрясении, которое пережила в тот проклятый декабрьский день, когда прибыла навестить его в этом кошмарном лагере. С того дня она начала бояться его…
— Я это понял, Вассерман, не просто бояться — ненавидеть. А наш Карл, он ведь так похож на меня, и ей иногда, в определенные моменты, тяжело было любить даже его, она и про это сказала. Но все время была уверена, что я делаю такие ужасные вещи только потому, что верю, что это мой долг, и что я, конечно, в душе ненавижу и проклинаю это, «потому что на самом деле ты другой» — так она заявила. И я, конечно, захотел капельку поменять тему, рассказать немножко про Отто и его команду, понимаешь, не так уж это легко — слышать от любимой женщины, как она ворошит все это, но Тина приложила палец к моим губам и сказала: «Позволь мне высказать все до конца, я так долго ждала этого». Оказалось, что несколько месяцев назад она решила официально развестись со мной и после долгих колебаний поехала к родителям в Аугсбург, чтобы сообщить им о своем намеренье, и они — представь себе, Вассерман, они прогнали ее со скандалом, велели немедленно покинуть их дом — ее отец держит прачечную, обслуживающую армию, а мать член «Женской лиги» Аугсбурга, — и, когда она сказала, что собирается развестись, они до смерти перепугались, просто обезумели от страха. Да. Как будто она сообщила им о какой-то ужасной заразной болезни. Просто вскочили и вышвырнули ее из дому. Чтобы она, не дай Бог, не заразила их. Кричали, что она навредит и мне, герою войны, и таким образом вообще нанесет ущерб всем военным усилиям Германии… Как видно, это были самые убедительные доводы, которые в ту минуту пришли им в голову, и мать еще бежала за ней по улице в одном халате и выкрикивала с перекошенным лицом, что она больше не дочь им, что они не желают видеть ни ее, ни ее детей… Представь себе, Вассерман, она осталась совершенно одна с двумя маленькими детьми, такая одинокая, без всякой помощи. Я ведь всегда делал все по дому, да, и нисколько не стыжусь этого. Любил возиться по хозяйству. А теперь все это свалилось на нее, на ее слабые плечи. И она, ты должен понять, она не какая-нибудь там вонючая коммунистка, она вообще ничего не понимает в политике, — прибавляет Найгель поспешно. Пальцы его нервно подрагивают и как будто вычерчивают что-то в воздухе. — Не было у нее ничего, за что ухватиться, — ни веры, ни партии, ни идеи, даже друзей, единомышленников не было, чтобы хоть кому-то рассказать об этом, ведь она совершенно самостоятельно, сама по себе, втихомолку, рассталась с нашим всеобщим энтузиазмом… Эта женщина, Вассерман, гораздо сильнее нас всех, я тебе говорю.
Тут Кристина принялась говорить о его письмах. Новых, неожиданных письмах, которые Найгель слал ей из своего лагеря. Рассказала, как была поражена, как, уложив детей, забиралась в постель и по многу раз перечитывала их и даже начинала потихоньку смеяться под одеялом.
— Ты понимаешь, что это значит для меня, Вассерман? Ведь я такой дуб! Никогда не умел рассмешить ее, самое большее, мог повести на фильм Чарли Чаплина. Чтобы хоть так услышать ее смех. И она говорит мне: «Я читала, и была ужасно взволнована, и смеялась, и плакала, и поняла, что ты не убийца — не можешь быть убийцей…»
Найгель сообщает, что при этих словах она гладила его лицо…
Вассерман: Господь Вседержитель! Нежная ручка, слабенькая — гладила эту гадкую физиономию!..
…и шептала ему слова утешения (см. статью милосердие) и любви (см. статью любовь).
— «Любимый мой, — сказала она, — я понимаю, какую борьбу ты выдержал в своей душе, ведь ты всегда был таким нежным, только я знаю, насколько ты на самом деле ранимый и деликатный, как ты умеешь любить и переживать…». И принялась потихоньку плакать. Крупные прозрачные слезы текли по ее щекам. «Но такой человек, как ты, — сказала она мне, — даже попав в этот ад (см. статью ад), вышел победителем». И не хотела утереть слезы, смотрела на меня сквозь них. Поверь, я чувствовал, что в этот час свершается мое второе крещение и это она окунает меня в спасительную купель, наполненную ее слезами. Разумеется, многое из того, что она говорила, было неверно. Ведь она, в сущности, не знает обо мне ничего. Я никогда не рассказывал ей о том, что было во время Первой мировой войны, и потом, в организации, в нашем движении, и здесь тоже, да, потому что я нисколечко не выбрался из этого ада, нет, я сижу в нем по уши и дышу всей этой вонью, смрадом всех этих печей, и дыма, и газа, и испарениями заживо гниющего Штауке, который только и делает, что зарится на мое место и подкапывается под меня, и этими дегенератами-украинцами, и транспортами, которые прибывают и прибывают без передышки, теперь уже и по ночам, и невозможно сомкнуть глаз от этого воя и грохота, и я уже не знаю, то ли я комендант этого лагеря, то ли его узник, но, когда она говорила со мной и улыбалась сквозь слезы, я готов был забыть обо всем, обо всем — о своей работе и Великом рейхе, о нашем обожаемом фюрере и своем партийном долге, — на меня снизошло какое-то отупение, удивительное спокойствие, в душе установилась блаженная тишина, в эти минуты я действительно хотел верить, что свою войну уже окончил, что в самом деле возможно все это перечеркнуть и стереть, начать жизнь сначала, быть хорошим и добрым…
Вассерман: Да, пока она говорила, наш Найгель лежал чистенький и свеженький, как только что выкупанный младенец, забыл даже свое вожделение к ней, погрузился в сплошную нежность и милосердие, лежал, как птенчик, только что вылупившийся из яйца, ой, как она льнет к нему, как успокаивается и хорошеет ее худенькое, невзрачное личико, а когда он начинает бормотать что-то в ответ на ее ласку и откровенность, то вспоминает про Фрида и Паулу, ведь только этим он может воздать ей, тем единственным способом, который теперь доступен ему, тем единственным рассказом, который до сих пор еще помнит, ведь о себе он не смеет сказать ни слова, ни слова не может произнести без того, чтобы ощутить себя гнусным лжецом, даже слова «я» нельзя ему выговорить без того, чтобы тут же вырвался из него некто другой, и набросился, и заставил замолчать, поэтому он рассказывает ей про Отто, про голубизну его глаз, про его соленые слезы, про тех, кто приходит к нему лишь затем, чтобы взглянуть на эти слезы и попробовать их на вкус, и про то, что тело доктора Фрида покрылось вдруг странной зеленой коростой, расцвело какой-то неизвестной науке сыпью, про несчастного Элию Гинцбурга, который взыскал истины… Так он создает перед ней чудное видение, фата-моргану, разыгрывает мой убогий рассказ в лицах, и голос у него уверенный и спокойный, абсолютно штатский, Тина слушает его, затаив дыхание, глаза ее подернуты тонкой пеленой тумана, ведь известно, есть такой особый взгляд у женщины, когда она вся целиком готова быть твоей…
Найгель:
— Тогда я ужасно захотел ее, просто не мог уже больше сдерживаться, но она вложила свою руку в мои ладони и сказала: «Подожди еще чуть-чуть. Пожалуйста. Дай мне еще минутку посмотреть на тебя и запомнить вот таким, да. Ведь таким ты и был когда-то. Ты вернулся ко мне, Курт… Благословен путник, достигший родного порога». И начала с улыбкой наклоняться ко мне, я почувствовал ее запах и почти закричал от… Но она приложила губы к моему уху и тихонечко, медленно-медленно, полушепотом запела: «Если бы мы только знали, что крошка Адольф замыслил тут натворить, едва войдет в Бранденбургские ворота…» У меня заняло какую-то минуту понять, что это не любовный напев и не колыбельная, что она, моя жена, исполняет мне на ушко мерзкую сатиру, которую со смехом распевали все эти провокаторы, все эти большевики-империалисты-коммунисты-евреи в первые годы, когда еще не почувствовали как следует нашей хватки, не осознали нашей силы, и она поет мне это сейчас, в минуту величайшей близости, в моем доме, в моей постели! В первое мгновение я окаменел. Не мог шевельнуться, не мог произнести ни слова. Она почувствовала. Она всегда чувствовала, что со мной происходит. Замолчала. И тоже застыла рядом. Лицо ее так и осталось прижатым к моей шее. Мы оба не двигались. Кажется, некоторое время вообще не дышали, потому что знали, что будет дальше. Как будто хотели продлить истлевающее мгновение счастья. Потом она села на кровати и выпрямилась. Взглянула мне в лицо и испугалась — приложила руку к своим губам и голосом, полным отчаянья, еле слышным голосом маленькой девочки спросила: «Ты действительно собираешься порвать со всем этим, Курт? Это все уже кончилось для нас обоих, правда? Ты вернулся ко мне, Курт, ты вернулся?..» А я почувствовал, как будто бомба разорвалась у меня в груди — вся эта моя работа, вся эта война, и вдобавок эта новая путаница, в которой я застрял, как в силках, но более всего — страх, да, мерзкий вонючий страх! Чего она добивается от меня? О чем имеет наглость просить? Что она воображает о себе? Что она вообще понимает?! Разве у меня есть в жизни что-то, кроме этой работы и нашего движения? Чего я буду стоить завтра, если вдруг оставлю свою должность? Ведь это смертный приговор для меня… Это будет расценено как дезертирство, как предательство, как удар по всем нашим военным усилиям… Этого она требует от меня? Она тотчас угадала мои мысли. Поднялась и опять посмотрела на меня, лицо ее побелело от страха — ох, Вассерман, на нем был написан в точности такой же страх, как я денно и нощно вижу тут вокруг себя, этот ваш еврейский страх, от которого мне хочется блевать, у моей жены была такая же самая физиономия, с которой ты впервые переступил порог этого барака, и все это она делает нарочно, чтобы доконать, чтобы погубить меня! Не знаю, как это произошло, я вдруг взбесился, ее страх выглядел, как приглашение, как провокация. Проклятие! — как свидетельство полнейшего, окончательного разочарования во мне, страх и презрение стояли в ее глазах — не знаю, чего было больше, — и ты должен помнить, что я целый год не дотрагивался до женщины, я был осатаневший голодный самец, дикий зверь, готовый растерзать, кровь ударила мне в голову, все вокруг было в крови, я не знаю, как это случилось, но я уже был на ней, разодрал все ее тряпки, все, что мешало мне: послушай, в жизни своей я не чувствовал такого скотского желания и такой ненависти к женщине, я знаю, я овладел ею грубо, беспощадно, без малейшего сострадания, без капли жалости… Катастрофа!.. Я бил в нее, словно молотом, и орал, орал ей в уши: шпионка! Большевистская подстилка! Иудино отродье! Хочешь воткнуть нож в спину Рейха? Не знаю, откуда у меня взялись такие слова, весь рот у меня был полон крови — ее крови, я видел перед собой ее окаменевшее, помертвевшее лицо, она не пыталась сопротивляться, лежала подо мной совершенно неподвижно с открытыми глазами, как маленькая девочка, и смотрела на меня без малейшего выражения, будто сквозь меня. Потом я отшвырнул ее от себя, вскочил на ноги и тут же оделся. И почувствовал страшную боль — нож застрял у меня в сердце, острый нож, потому что не так я хотел любить ее, совершенно не так, — все было погублено, все порушено, а ведь я хотел как раз наладить, мечтал о том, чтобы все у нас было хорошо, и не знаю, поймешь ли ты, но что у меня есть, что вообще у меня было и есть в жизни, кроме нее и детей? Пропади она пропадом, вся эта бойня, вся эта война, как она сумела изгадить нашу жизнь, влезть даже в наши постели!.. Было ясно, что это конец. После этого уже ничего не может быть. Ничего нельзя вернуть. Есть такие вещи, которые невозможно исправить. Я взял свой чемодан и вышел из дому. У меня не хватило сил взглянуть на Карла и Лизу — не хватило мужества. Было такое чувство, что мне нельзя смотреть на них, нельзя приближаться, что даже взгляд мой может погубить их. Я вышел, не сказав ни слова. Прошел пешком через весь город до вокзала и просидел там всю ночь, дожидаясь утреннего поезда. И когда какой-то солдатик прошел мимо, отсалютовал мне и выкрикнул хайль! — меня чуть не вывернуло тут же на месте. Ладно, Вассерман, рассказывай дальше.