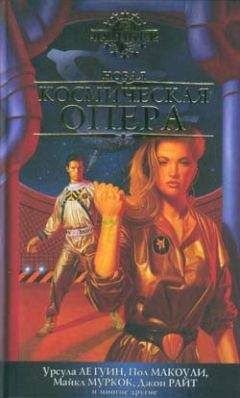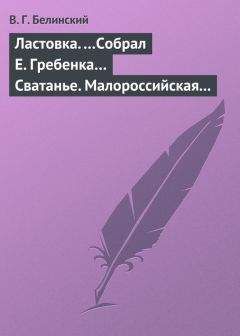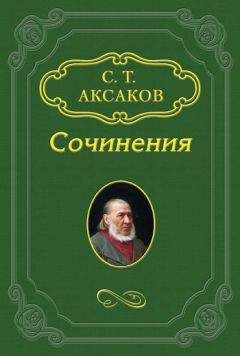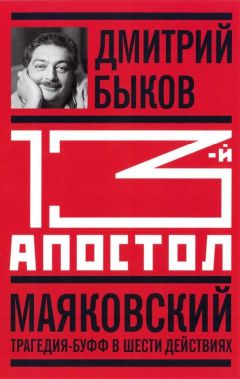Дмитрий Быков - Орфография
почти шепотом закончил Працкевич и медленно, механически опустился на мост; широко раскрытые глаза его меркли. По спине у Ятя прошел холод. С другой стороны моста послышался ровный, бледный голос Казарина:
Я не предал белое знамя,
Окруженный криком врагов.
Ты пришла ночными путями.
Мы с тобой — одни у валов.
Ять еще не знал этих стихов.
А вблизи — все пусто и немо,
В смертном сне — враги и друзья,
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.
Воцарилось недолгое молчание, нарушенное Стечиным:
Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету…
И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну,
И стало страшно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту.
Золотился восток, и так же ровно, бледно светился запад, и впервые в жизни Ять не ревновал, услышав свое заветное из уст недруга, почти врага; только теперь, в небывалое время дня между днем и ночью, на мосту между островами, в потустороннем городе, — он понимал, что фамилия поэта, всегда казавшаяся ему олицетворением предела, запрета, на самом деле звучит вовсе не так; она и в этом, втором своем значении была замарана, захватана, обозначая бессмысленный союз каких-нибудь думских кадетов и октябристов, — но на деле ею обозначалась нерасторжимая связь всех этих никому не нужных людей, празднующих свадьбу двух беспомощных детей.
Между тем молодежь читала уже вовсе не известные Ятю стихи, которые, мнилось, написаны были в самое последнее время — новой поэзии он не знал совсем. Слава Богу, это не были ничевошки, — то был классический русский стих, прошедший суровую возгонку, обретший новые интонации и смыслы, стих горький и точный, хотя и помнящий о преемственности:
В море гудят паруса, флот уплывает во вторник,
Даже поэта берут, чтобы украсить войну, —
Видя широкую кровь, пусть вдохновится затворник.
Вся она ходит за ним, плавную стелет волну…
Вся она ходит за ним, пряча улыбку возмездья.
Весь он на месте стоит, в свой путешествуя ад.
Странствует только душа, все остальное — на месте,
В чем убедится с лихвой, кто возвратится назад.
Ашхарумова договорила эти стихи, опустила голову, — но тут же с другого конца моста послышался голос Зайки:
И стыдно стало мне, как будто я сама
Так улицу свою нелепо искривила,
И так составила невзрачные дома,
И так закатный луч на них остановила, —
И стыдно стало мне за улицу, район,
За город, за страну, за все мое жилище,
Где жизнь любви, — да что?! — любви последний стон
Обставлен быть не мог красивее и чище.
И, венчая собою дивертисмент, зазвучали с середины моста под гитару голоса льговцев — на мотив детской песенки о кузнечике:
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну:
Ты вечности заложник
У времени в плену.
Представьте себе, представьте себе,
Ты вечности заложник,
Представьте себе, представьте себе,
У времени в плену!
Но уже расходились, прощались, и все как-то двоилось, троилось, слоилось; вот прошла Маркарян в обнимку с сромным Чашкиным, — ступай, не жалко, будьте, конечно, счастливы, — вот удалился Льговский, вот Стечин подошел поздравить Ашхарумову: их с Барцевым провожали на квартиру Соломина, кто-то вызвался уже идти с ними, на случай столкновения с патрулем, кто-то обещал непременно привести к ним завтра самого настоящего попа («но нашего, нового! — ведь его звали, только он почему-то не пришел»); под гитару грянули «Налейте, налейте бокалы!» — Грэм, пошатываясь, дирижировал с серьезным и неподвижным лицом. Прошла Зайка — одна, как всегда, и за ней хотел пойти Ять — сказать ей, какая она славная; но слишком много было выпито и слишком не хотелось шевелиться. Он сидел на середине моста, привалившись к ограде, глядя в темно-синее небо, отыскивая в нем знакомые звезды: почти такие же были в Крыму — но наши бледней. Пусть другие идут — куда ему торопиться? Сейчас останутся те, кто должен остаться. Ашхарумовой и Барцеву крикнули последнее «Горько!», но они уже уходили, сопровождаемые свитой; Казарин, спустившись с моста на берег, долго смотрел им вслед.
— А мы тут разведем костерок да помелем языками вволю, — приговаривал Алексеев, возясь с хворостом. — Завтра-то еще получится ли?
— Кстати, а что завтра? — улыбаясь, спросил Фельдман. — Опять, что ли, по дворцам?
— Да нет, думаю, по домам, — потянулся Соломин. — Давайте я, Владимир Александрович. Вы-то совсем не умеете.
— Не умею, не умею, — легко покаялся Алексеев. — Да вы и помоложе — ну-ка, давайте-ка.
К костру, как тень, прошмыгнул Мельников с кипой мятых бумажных страниц — и принялся по одной подкладывать их в огонь. Ять взглянул на мельниковские бумажки — и узнал в них разрозненные страницы «Универсологии» Борисоглебского.
— Зачем вы их жжете? — спросил Ять.
— Чтобы подольше было хорошо, — не отводя глаз от огня, ответил Мельников.
— Вы не должны этого делать, — вдруг со значением сказал Грэм. — Вы не можете знать, что будет, и потому никогда не должны бросать бумагу в костер; особенно если это чужая бумага.
Мельников взглянул на него заинтересованно; Грэм кивнул, словно подавая ему сигнал, принятый между бродягами, — да, да, все это серьезно; и Мельников вручил ему пачку страниц, исписанных разноцветными чернилами.
— Сохраните, Ять, — распорядился Грэм. — Я даже свои рукописи беречь не умею… Ять кивнул.
— Только тут отсыреет… а это ведь единственное, что от старика осталось! Надо отнести в кухню. — Он встал и, пошатываясь, побрел к бывшей кухне Елагина дворца. Он не был здесь с того самого мартовского дня, когда они с Казариным и Ашхарумовой нашли подземный ход. В кухне было темно и громоздились какие-то ящики; он положил рукопись на ближайший и отправился назад. Отчего-то казалось очень важным отнести ее в сухое место. В самом деле, вдруг там вся мудрость мира! Обратно идти было все тяжелее, его неумолимо клонило в сон.
Разбудил его Грэм — казалось, он не дал Ятю проспать и пяти минут.
— Я советую вам уйти, — сказал этот выдумщик, тряся его за плечо. — Здесь будет плохо, очень плохо.
— Оставьте, Грэм, — безвольно сказал Ять. — Я спать хочу.
— Я настоятельно советую вам уйти, — повторил Грэм сухо. Он уже проживал очередной рассказ.
— Ладно вам, — Ять махнул рукой. — Попробуйте разбудить еще кого-нибудь…