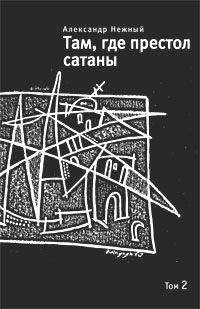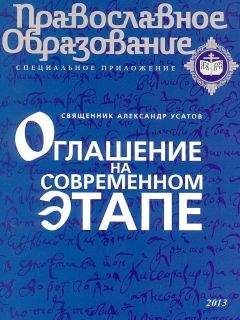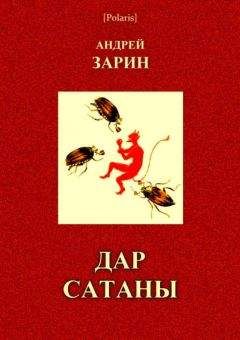Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 1
И пока шел, все твердил про себя: «…явлю ему спасение Мое…». Яви, Господи. Не дай сгинуть в преисподней. Оборони от врагов, дышащих яростью. Избави от злого заточения, убереги от погибели, спаси и сохрани от зверя, вышедшего пожрать Церковь Твою. Милосердной Твоею рукой отведи лютую казнь, ибо не один живу я на свете, а вместе с возлюбленной супругой, которая носит под сердцем от плоти и крови моей. Каково будет ей в горьком вдовстве – с дитем и стариком, моим отцом? Он снял кепку и перекрестился на купола и кресты Успенского собора, молчаливой громадой возвышавшегося над площадью. Отцу Михею Царство Небесное и вечная память. Как же летел сброшенный безумцами с колокольни страдалец-звонарь, как рот его был открыт в безмолвном вопле и как пронзили малое его тело откованные наподобие копий железные прутья ограды! Словно провалившись под лед, в студеную воду, о. Петр вздрогнул и еще раз перекрестился. Не приведи, Господи. Он пересек площадь и остановился у особнячка, некогда принадлежавшего господину Козлову. Счастливый человек. Убежал. Оставил свое добро и выскользнул из рук красной стражи, как Марк евангелист – из рук стражи храмовой, оставив ей покрывало, в которое был он закутан по нагому телу. Но верующим во Христа ныне надлежит вослед Спасителю смирить себя до крестной смерти.
– Тебе чего? – с крыльца ему навстречу шагнул часовой.
– Скажи начальнику – священник Петр Боголюбов пришел. Он за мной посылал, да я отлучался…
На зов часового вышел высокий парень с бритым лицом и мутными, пьяными глазами и, ни слова не говоря, крепко взял о. Петра за рукав и повлек его за собой на второй этаж. Там, толкнув ногой двустворчатую дверь и переступив порог просторного кабинета, он указал на о. Петра сидящему за столом рыжему человеку в черной кожанке:
– Сам явился, товарищ Гусев!
Как из бочки, перло от него самогонкой. Гусев недовольно пошевелил широко вырезанными ноздрями горбатого носа.
– Ты бы не дышал, что ли, Голиков…
– А у них тут, – оправдался Голиков, стыдливо прикрыв рот ладонью, – ничего порядочного.
В пустом почти кабинете гулко отдавался мерный стук больших напольных часов. Гусев между тем неторопливо закурил, затянулся со вкусом, отхлебнул чай из стакана в серебряном подстаканнике и благодушно промолвил, что чаек с утра – милое дело. Кому самогон, а кому чай чаевич, да покрепче после бессонной ночи.
– Ага, – обиженно молвил Голиков, не забывая, однако, заграждать рот рукой, – нам без нее все равно нельзя. Не то свихнешься.
Прищурив глаза, сквозь колеблющуюся тонкую завесу табачного дыма Гусев, наконец, глянул на о. Петра и осведомился у Голикова, что за чучело он притащил.
– Поп это… Боголюбов Петр.
– Не может быть! – рыжий человек за столом изобразил крайнюю степень изумления. – Служитель культа – и в наряде мастерового! К чему такой маскарад? Такая профанация сана? Вот братец его ко мне вчера приходил – одет по форме, сразу видно: поп. А здесь что мы видим? Мы видим, – он уставил на о. Петра холодные глаза цвета застывшей на воде ряски, – сапоги… пиджак потертый… кепку старую. Волосы, правда, длинные… борода… Так и у меня усы, – он притронулся к редким усикам на верхней, толстой и чуть вывернутой губе. – И что? Разве я поп? раввин? мулла?
– Да он в бега вдарился. И форму поменял. В портках-то, небось, ловчее, чем в этой… ну как ее…
– Ты не мучайся, – оборвал его о. Петр. – И проспись. А вы, – сказал он Гусеву, – зря устраиваете лицедейство. Я вам был нужен – я пришел. Отца отпустите. Игуменью. Вы их в залог взяли до моего появления – вот он я. Залог верните.
– Вообще-то, – Гусев откинулся на спинку кресла и пустил к потолку колечки дыма, – распоряжаюсь здесь я. Кому говорить, кому молчать, кого брать в заложники, кого отпускать – я решаю. И вам, Петр… э-э-э… Иоаннович, я советую это запомнить. Да вы садитесь, садитесь, – указал он на стул. – В ногах, как утверждает русский народ, – с едва уловимой издевкой произнес он, – правды нет. Впрочем, где она, в чем она – правда русского народа?
– Вам не понять.
– Нет, в самом деле, в чем? – продолжал Гусев, хладнокровно пропустив мимо ушей слова о. Петра. – Что-то мне приходилось слышать и читать приходилось… на севере, в ссылке, лето короткое, зато дни долгие, а зимой – длинные ночи. Время было. Народ-богоносец – ведь это, кажется, о русском народе? Редкая чушь. Да вы интереса ради загляните в нужник, где этот народ гадит. Там… Щадя, однако, ваши чувства, опускаю подробности. Ты вот что, Голиков, пока мы с дорогим гостем беседуем, позови-ка, – тут он оценивающе взглянул на о. Петра, – двух ребят… И Ваньку.
– Ваньку какого? Смирнова?
– Смирнов нам сейчас не нужен. Ты позови китайца. Он, я надеюсь, не очень пьян?
– Не очень, – ухмыльнулся Голиков, покачнулся и вышел.
– Курите, – Гусев протянул о. Петру коробку папирос. – Отменный табак!
– Не приучен.
– Скажи-ите! – Гусев удивленно вскинул рыжие брови. – А ваш братец с большим, я вам доложу, удовольствием… Мы с ним недурно поговорили за папиросами и чайком. Александр… э-э-э… Иоаннович вообще произвел на меня приятное впечатление. Он – да вы, наверно, знаете – из тех служителей культа, кто, так сказать, присягнул на верность советской власти. У него мандат именно в таком духе. Он, кстати, сообщил, что в Сангарском монастыре вы должны были навестить одного старика… Гурия… Навестили?
Отец Петр стиснул зубы. Ах, Саша, зыбкая душа! Довели тебя игры в новую церковь… Не курил ты со зверем – ты ему воскурил.
– Что ж вы молчите, дорогой мой?
– Отца отпустите, потом спрашивайте.
– Отпустить? Да пожалуйста! Сейчас этот вот с утра пьяный молодой человек к нам явится, и я ему прикажу… Беда мне с моими бойцами, – сокрушенно вздохнул Гусев. – Как в городок ваш вошли, так будто с цепи сорвались. Никакой управы. Женский монастырь штурмом взяли! Несчастного скопца прямо с колокольни… И на ограду. Жуткая смерть! – Он глотнул и с сожалением отметил, что чай остыл. А чай, как женщина, должен быть горячим – не правда ли?
Отец Петр угрюмо молчал.
По поводу звонаря и его прискорбной кончины. Есть какая-то в русском народе природная жестокость… Человека – с колокольни?! Зачем? И так было ясно, что он не птица. Не следует, однако, думать, что он, Гусев, в данном случае судит с еврейской недоброжелательностью. Был здесь вчера аптекарь Шмулевич, которого, надо полагать, ваш братец подбил просить за вашего папашу. Александру… э-э-э… Иоанновичу, к несчастью, присуще убогое представление толпы: еврею ли с евреем не найти общий язык! Пришлось растолковать гражданину Шмулевичу, убежденному, кстати, иудею по своему религиозному помешательству, что коммунист не может быть евреем. В партии нет и не может быть евреев, или русских, или татар… Не кровь важна, не нация, не родные березки или, к примеру, пальмы, а верность идее. Одно человечество, одна страна, одно будущее. Равная для всех доля счастья.
Отец Петр усмехнулся. Дьявол – обезьяна Христа.
Гусев пожал плечами. Дьявол, Бог – разве это имеет значение? Всех сварим в рабоче-крестьянском котле. Всех ангелов, всех чертей, русских с их жестокостью, евреев с их хитростью, немцев с их сентиментальностью, китайцев с их коварством – и выйдет из этого варева новый человек для новой жизни. Кто желает присоединиться – милости просим. Кто не желает – не топчи землю зря.
– И что аптекарь… Шмулевич, – подал голос о. Петр, – понял? И приобщился?
Хозяин кабинета взглянул на него с многозначительным прищуром.
– Приобщился.
Недоброе предчувствие закралось в душу о. Петра.
– Слушайте, вы… Гусев… Лейбзон… или как там вас… – говорил он, содрогаясь от желания сию же минуту обеими руками сдавить шею меченому рыжим цветом выкормышу сатаны – так, чтобы и дух из него вон, – отца мне отдайте… Делайте со мной, что хотите, но отца отпустите! Я вам нужен за слово мое, которое я в храме сказал после того, как вы Михея несчастного убили, – я здесь. И слово мое со мной – нет худшей беды для России, чем ваша власть. Довольны?! – задыхаясь, спросил он. – Еще вам сказать? Я скажу: из преисподней вырвались, туда и вернетесь. Еще сказать? И таких, как вы… и евреев, и русских… всякого народа бесноватых… настанет час, когда вы в свиней вселитесь, которым путь – с крутизны на дно морское. Когда вас всех Россия проклянет последним страшным проклятьем!
Он встал.
– А ну, – процедил Гусев-Лейбзон и мгновенным движением открыл ящик стола, – сидеть!
Но ввалился Голиков и вслед за ним Ванька-китаец с глазами-щелочками и двое крепких ребят в мятых гимнастерках.
– Усадите попа, – велел им Гусев, и о. Петра тотчас вдавили в стул две пары сильных рук. – Теперь продолжим.
Слово, чиркнув спичкой, закурив и окутавшись дымом, сказал он, уже есть дело. Слово против советской власти – преступление с неизбежным за него наказанием. Так что свое Боголюбов-сын непременно получит. Но у него есть возможность облегчить свою участь.