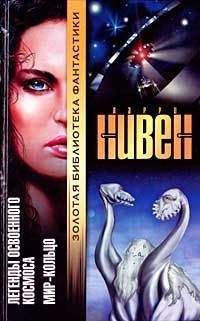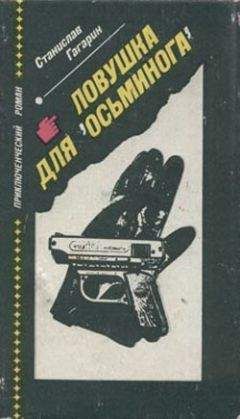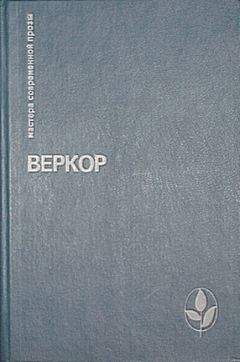Изменчивость моря - Чан Джина
У каждого из королевских пингвинов есть корона из волнистых желтых перьев, похожих на причудливые усики или неудачно подкрашенные брови, в зависимости от точки зрения; когда они ходят, они выглядят – как, впрочем, и большинство пингвинов – абсолютно нелепо. Но в воде все совершенно иначе. Плотные кости придают им обтекаемость торпеды в воде, а золотистые перья развеваются за ними, как хвосты комет. Зрелище, которое заставляет меня вспоминать слова Апа о том, что все живое в разы прекраснее, когда видишь его в естественной стихии.
Я оставляю Коду с кусочком кальмара и отмечаю в журнале на рабочем месте, что она до сих пор ни к чему не притронулась. «Кода все еще ест без энтузиазма, – пишу я. – Рекомендую медикаментозное лечение или отселение от других пингвинов, если ее состояние продолжит ухудшаться. Вероятно, реакция на стресс?»

Людям нравится посмеиваться над пингвинами или думать о них как о маленьких человечках в смокингах. Какое-то время я тоже так делала, предпочитая им более крупных и интересных животных в аквариуме, таких как Долорес, или акулы, или мурены, или скаты-манты. Но в документальном фильме Вернера Херцога [16] об Антарктиде, который Тэ однажды заставил меня посмотреть, был один момент, изменивший мое отношение к ним. Мы купили немного курительной смеси у друга и сидели в его квартире, наблюдая, как дым поднимается из наших ртов к потолку, когда ему внезапно пришла в голову идея показать мне «Встречи на краю света».
– Очень вдохновляющее название, – заметила я.
– То ли еще будет, вот увидишь, – улыбнулся он. – Это один из моих любимых фильмов.
И он был прав. Я пялилась в экран, как завороженная, все девяносто девять минут документального фильма. Тэ наблюдал за мной, пока я его смотрела – как это частенько делают парни, которым не терпится показать другим нечто, что нравится им самим, но при этом хочется сохранить хладнокровие. В одной из сцен с пингвинами Вернер Херцог спросил исследователя: «Существует ли среди пингвинов такая вещь, как безумие?» Этот вопрос и то, каким будничным, но в то же время очень серьезным тоном он его задал, заставили меня громко рассмеяться – куда громче, чем если бы я не успела покурить. «Могут ли они просто сойти с ума, потому что им надоела их колония?»
Исследователь, казалось, был сбит с толку вопросом Херцога. Камера скользнула по колонии пингвинов, толстые черно-белые овалы их тел поблескивали на солнце. «Все эти пингвины направляются к открытой воде, направо, – нараспев произнес Херцог. – Но один из них привлек наше внимание: тот, что в центре».
Одинокий пингвин появился в кадре, всего лишь черная точка на фоне белой тундры, ковыляющая прочь от остальных. Вместо того чтобы направиться к воде или туда, где загорали его собратья-пингвины, он решительно двинулся – пусть неуклюже, но с постепенно возрастающей скоростью и настойчивостью – вглубь острова, где, как сообщил нам Херцог, «он неминуемо встретит свою смерть».
Камера начала отдаляться от пингвина, чтобы показать нам необъятность окружающих его белых льдов и голубые горы на горизонте, как бы подтверждая предсказание о его судьбе. «Даже если бы мы поймали его и вернули обратно в колонию, он бы немедленно отправился обратно к горам. Но почему?» – задал вопрос Херцог.
Когда сцена закончилась, я плакала, мое тело сотрясалось от неистовых рыданий. Тэ посмотрел на меня с тревогой.
– Ты в порядке? – спросил он.
За все время наших отношений он видел меня плачущей, наверное, всего пару раз – если мы сильно ссорились или что-то в этом роде. Сигареты заставили его голос звучать высоко и отдаленно, как будто он доносился с потолка. Он уставился на меня широко раскрытыми остекленевшими глазами, а я в тот момент чувствовала себя настолько одинокой, что почти не могла дышать. Я ощутила, как мое тело сжимается в запятую, свернулась калачиком под его одеялами и плакала, плакала. Наблюдая за тем, как крошечное тельце пингвина исчезает в горах Антарктиды, я почувствовала, что и сама тоже растворяюсь и исчезаю.
Тэ обнимал меня, гладил по волосам, пока я не успокоилась и не заснула, а утром, когда он спросил меня, не хочу ли я поговорить об этом, я промолчала – просто притянула его ближе, пока не почувствовала, как он напрягся. Мы трахались так, как я всегда хотела и как он почти никогда себе не позволял: он дергал меня за волосы и засовывал пальцы мне в рот, я сосала их, и вкус его соленого и железистого пота был утешением, зельем против страха снова остаться одной.

Сообщение от Уммы жжет меня через задний карман джинсов весь день, всю мою смену, пока я кормлю остальных животных. Я рассказываю об этом Долорес, наблюдая за тем, как она поглощает свой завтрак. Покончив с едой, она поднимает взгляд и смотрит на меня так, словно ей уже надоели мои проблемы.
Сегодня она кажется несколько вялой, ее большие глаза превратились в узкие желтые щелочки, и я читаю в этом взгляде осуждение. Я наблюдаю за ее красно-фиолетовым мерцанием, пока она плавает по аквариуму, и у меня комок подступает к горлу, когда я думаю, что скоро вообще потеряю возможность с ней видеться. Я даю ей дополнительную порцию кальмаров, потому что не знаю, что еще могу сделать для нее. «Может, она будет счастливее в своем новом доме», – думаю я про себя.
«Важно не привязываться, – говорил мне Апа всякий раз, когда рассказывал о своей работе. – Животные живут не так долго, как мы, и мы едва ли сможем многому у них научиться, если будем все время сравнивать их с собой». Но он постоянно нарушал свое собственное правило, часто показывая мне новые трюки, которым он научил Долорес, и особенные головоломки, которые он приготовил специально для нее. «Ее интеллект находится на уровне десятилетнего ребенка, – пояснил он мне, когда мне исполнилось немногим больше. – На самом деле, она, вероятно, умнее тебя». Это случилось сразу после того, как мне пришлось принести ему на подпись результаты одного из тестов по математике, позорные красные цифры, семьдесят баллов из ста, обведенные поверх моей работы, словно они были рекламным щитом, объявляющим миру, насколько я тупая. Апа часто говорил подобные вещи, совершенно не задумываясь над тем, как они могут прозвучать для других людей.
«Вот что происходит, когда слишком много торчишь в окружении животных, – не упускала случая прокомментировать это Умма. – Человеку вредно проводить столько времени вдали от людей». Но Умма по-своему была такой же. На самом деле у нее не было друзей вне церкви, большую часть времени она проводила в нашем саду, читала или перебирала ноты для занятий хором. Пока я росла, я всегда думала, что ей просто не нравится заниматься ничем другим, и только гораздо позже мне пришло в голову, что она, возможно, чувствовала себя одинокой вдали от того места, где выросла, с мужчиной, который, казалось, был одержим только морем, его красотами и секретами.
Ребенок ограничен тем, что ему требуется очень много времени на осознание того, насколько странной является его собственная семья, и на оценку ее недостатков, плюсов и причуд. Когда я была маленькой, то думала, что родители каждого человека подолгу не разговаривают друг с другом и что любое общение за ужином сводится в основном к молчанию, прерываемому случайными просьбами передать соль или салфетку. Что у всех родителей случаются ссоры, которые могут быстро перерасти в череду взрывов, превращающих дом в минное поле.
Карл входит, когда я возвращаюсь на кухню и убираю оставшиеся от утренних приготовлений тарелки. Каждый раз, когда он видит, что я прибираюсь, он реагирует так, словно я делаю ему огромное одолжение: говорит мне, что я «прямо рок-звезда» или «настоящий командный игрок», вместо того чтобы просто поблагодарить меня или попросить кого-нибудь другого – например, Франсин – сделать это за него. Я знаю, что мое молчаливое согласие – часть проблемы, и что я могла бы просто перестать этим заниматься. Но теперь все ждут, что именно я буду мыть посуду, и мне попросту легче оставаться в накатанной колее.