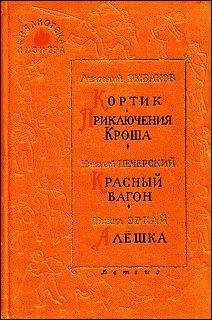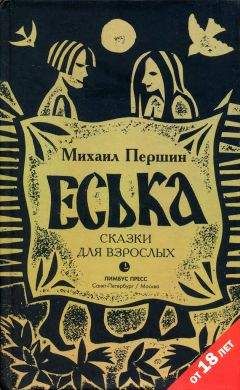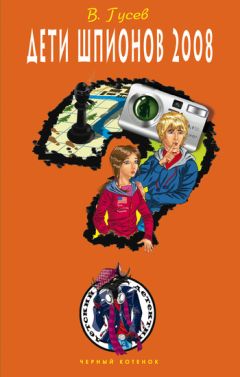Ворон на снегу - Зябрев Анатолий
Продолжая слушать барачную пустоту, Любка не выпускала из внимания свой правый бок, где под ребром должна бы держаться всегдашняя боль, но болей не было. Не было и того камня, что там прежде держался. Не поворачивая головы, скосила Любка глаза, где был в темноте проход между печью и стеной. Там льняным лоскутком серело оконце. «Что же выйдет с ней, с бедной-то Дашуткой?» — спрашивала сама себя.
Странно, с пониманием неизбежности кончины голова ее становилась яснее, а тело спокойнее. Она думала о них, кого любит, кого должна оставить, и к тихому счастью своему осознавала, что, конечно же, никуда они не могут деться, потому что они все с ней, в ней. Любовь никуда не девается, и люди живут на земле потому, что они в этой всеохватной, нетленной любви. Это как свет от солнца никуда не девается, и сколько бы раз ни приходила ночь, она никогда не отнимет божьего дня от божьего солнца.
Боже! Боже мой!
Как она любила выбегать, ошалелая, к воротам, когда Алешка возвращался из своих дальних поездок. Непременно чувствовала тот час, момент, когда он приедет. Так всякая травная былка на иссушенном, обезвоженном в зной супесном полевом холмике знает о скором дожде, который еще только где-то за горами, за лесами, в самых пойменных низинах набухает и зреет. И час угадывала, и минуту. Тоска в ней перерождалась в бурливую радость, и это чувство она, стесняясь выказывать на ребятишках, прятала в самой себе за напускной прихмурью бровей, за строгостью, но дети, хитрованы, все улавливают, распознают, и глазенки их, глядючи на мать, не верили в ее прихмурь, посверкивали тоже радостью и тоже этак полускрытно. Днем ли, ночью, она не пропускала момента, когда Алешка, свернув у оврага в проулок, подъезжал вдоль черемух к воротам, покрикивал «эк-э-э», относящееся не то к лошади, не то к кому-то еще. Летом, при густоте листьев на черемухах, это самое «эк-э-э» выходило мягким, приглушенным, как через ладонь пущенным, а зимой, по морозцу — резким, остуженно хрустким. Но еще до того, как услышать Алешкино покрикивание, поцокивание губами, еще до того, как ему свернуть у оврага, застучать коню по бревенчатому настилу на дороге копытом, колесу тележному защелкать, а полозьям санным проскрипеть, она уже знала: вот он, уж в улице! Если ребятишки не спали, она шумела: «Дети!» — и вперегонки с ними, как глупая и шальная, летела от порога, мимо окон, мимо поленницы, через ограду, путаясь коленями в подоле юбки.
А еще... Они с Алешкой поехали в Колывань. Первый раз они тогда поехали как муж и жена. Венчанные. Снег освободил дорогу. Любка уговорила об эту пору поехать. Попроведовать свекра и свекровь. Обь еще не очистилась ото льда, переплывали не паромом — лодкой-вертушкой. Мужики жердями отбивали льдины, которые подныривали, налезали одна на другую и шумно сопели, как перекормленные свиньи, из синих разрыхленных ноздрей фонтанила зеленая вода. Лодка выкручивалась.
А по всей Оешке, по обоим берегам этой некрупной спокойной речки, вливающейся в Обь, набухали белой пеной черемухи. Уж так они набухали! Будто кто взбил сметану и навешал густыми хлопьями, лоскутами на черные кусты. Отчего уж в ту весну так рано и густо набухли эти оешинские черемухи по-над закрайками воды, господь их знает. Как вышла Любка на берег, дохнула, так и занемогла. Она тогда ходила в первой своей тягости. Дашуткой ходила. От густоты черемушного духа голова закружилась. Она вскрикнула: «Ой, Леш!»
Алешка подбежал, подхватил ее, понес яром.
«Больше не кружится, пусти, Леш», — попросила почти тотчас она, стыдясь такого с собой обращения. С пристани глазел народ. Оттого-то было неловко. А Алешка все нес да нес. А она все просила, смущенная: пусти, пусти. Однако держалась за его шею, сцепив пальцы. И так таила и вместе выказывала желание, чтобы Алешка пронес еще вон до деревца, еще чуть, вон до той лужайки, пусть, пусть глядят люди. И просила опять же: «Пусти, пусти, Леш...»
Давно, давно, еще соплюшкой, она с подружками бегала тут вокруг пристани, парусничек по тихой реке скользил. Наполовину голубой, наполовину белый был тот парусничек. Потом на берег молодые господа сошли, а с ними барышни. И кавалеры, и барышни были одинаково в белом. Кавалеры бережно и ласково выносили барышень на берег из лодки по мосткам на руках. Барышни эти были дочери управляющего пароходной компанией, а кавалеры — откуда-то приехавшие на каникулы гимназисты. И такая чистота от них от всех шла! Ну, как от черемушного цвета. «Счастливые», — подумала про барышень Любка, ослабла и разревелась. «Ты чего»? — спрашивали ее девчонки. Любка не сказала, да и не могла бы она объяснить то в себе состояние, в незрелом своем сердчишке.
И когда Алешка нес ее через пристань по тем мосткам, она, пряча свое лицо в его мягкую, щекочущую бороду, вспомнила о том. Алешка не выпустил ее до первого двора, что был огорожен от поймы плетнем, откуда навстречу им старуха в чепце и в опояске выгоняла хворостиной табун серых гусей. «А вот возьму да и через весь порядок, через всю улицу протащу, а что», — шалел Алешка не то от весны, от тех же черемух, не то от людского осуждающего смотренья. «Да ты что! — испугалась Любка и, расцепив руки, забила коленками. — Беспутный ты совсем уж, что ли...» «А что?..»
Так вились в голове Любки, лежавшей в заезжем бараке, картины прежней ее жизни.
В этот ночной час Алешка тоже не спал. Было нестерпимо душно, жало в груди, и прочие нудные ощущения были у него в разбитом теле. Запахи немытых тел наполняли арестантскую казарму. Сосед сонно крутился на верхних нарах, бил по доскам ногой. Кто-то, также сквозь сон, выкрикивал матерные угрозы. Алешка лежал на нижних нарах, затылком пробовал вжаться в стену, потому что стена была прохладнее. Пытался связать разорванные, разбросанные свои думы, определиться на том, что надо, от чего горит грудь, однако память заклинилась на далеком моменте. Тогда они с Любкой, вскорости после женитьбы, определились на житье при шпалозаводе, располагавшемся в тайге. Двух недель еще не прожили, а Любка уже ему:
— Уйдем отсюда. Завтра же уйдем. Иль сегодня...
— Да ты что? — очень удивился Алешка. Было чему удивляться: ведь на шпалозавод они пошли из-за хороших заработков, чтобы потом лошадь купить.
— Нет, нет!
— Что — «нет»? — терялся Алешка. — Что — «нет»?
— Дак ведь этот... Пристает! Прохода нету... Этот самый...
— Кто? — жаром окатило затылок Алешки. — Чего ты?.. Кто?
— Да все этот! Кто, кто!
— Кто? — Алешка ухватил молодую свою жену за распущенные волосы.
— Дак этот... Дятел все. — Любка убрала ладони со своего лица и твердо глянула в глаза Алешке. От пальцев на ее округлых щеках остались надавы, лицо как бы полосатым сделалось.
— Ну, этот... — улыбнулся Алешка. — Нашла о ком... Кавалер он тебе, как раз. А мне — соперник. Как раз...
Технорук был при заводе, по прозвищу Дятел. Смуглый низенький человечек с заостренным хрящеватым носиком, обутый в мягкие сапоги, передвигался на полусогнутых ногах шустренько, но при каждом шаге его туловище, отставая от ног, приседало, и острый его носик как бы поклевывал воздух.
— Этот мне как лист к заднице, — веселел Алешка, называя жену дурочкой. — А если что... Точно! Со смолой помешаю его и это... шпалу из него сделаю. Только вот вонючая больно шпала-то выйдет. Точно!..
Теперь вот Алешка свесил с нар ноги. В далеком углу, над парашей, слабо горело пятно светильника. Ждал, что какой-то порядок выйдет в голове. Попробовал представить в подробностях, как бы он тогда стал делать шпалу из Дятла: сперва бы, конечно, просмолил, потом просушил, потом подровнял, руки отрубил... Бр-р!
«Ну... а вот из тебя мы, Мирон Мироныч, это... Из тебя мы непременно это... Ну, не шпалу... Из тебя мы, жирного хряка... Должок тебе отделим. Что мы из тебя?.. Ну-у!..» — пришло Алешке то, о чем надо сейчас думать, и он в возбуждении ударил пяткой об пол, следуя примеру арестанта, который во сне лягался, ударяя ногой шаткие доски.