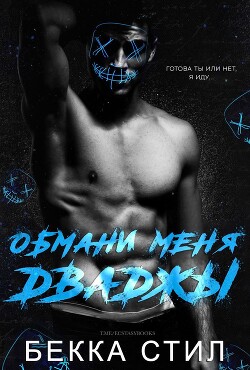Автопортрет. Самоубийство - Леве Эдуар
Итак, здесь встречаются, вступают в зеркальное, но не симметризуемое, как в случае с читателем, отношение (это именно «я» смотрится в зеркало «ты», но не наоборот, ибо покончившее с собой «ты» уже никогда не станет, единожды себе в этом отказав, «я»), в конце концов замыкаясь друг на друге и обретая предписанные роли, две инстанции-лица: «я» — рацио, cogito, «ты» — подсознание, юнговская тень (а в дальнейшем, в после-житии, эта картина дополняется, естественно замыкается третьим лицом-измерением текста Клерка), и это «расширение» нарушает внутреннюю защищенность, казалось бы, воинственно самодостаточного универсума «Автопортрета»: в него проникают немыслимые ранее нотки экзальтации, принятая доза дополнительной человечности, усиливая «мучительное возбуждение жизни», разрушает его защитные построения, угроза, как выясняется, уже стоит на пороге. «Установить причины его самоубийства не представляется возможным, я могу их подбросить десятки» (ТК).
И как бы там ни было, «Самоубийство» никогда не сможет восприниматься вне истории своего перформанса, останется косвенной посмертной запиской, его, как и все произведения Леве, теперь уже невозможно отделить от завершающего, итожащего жеста. («Никто не предвидел, что написание «Самоубийства» было перформативным актом, ведь никто не смешивает слова и вещи», и чуть дальше: «Оглядываясь назад, я понимаю поспешность, с которой он созвал нас на ужин в сентябре 2007 года, это был его прощальный ужин» (ТК).) Он хотел дойти в самоосознании до конца — рисковый, без страховки, ныряльщик в собственные абиссали — и дошел. (Вообще, самоубийство художника, как правило, очень трудно не включить в корпус его творчества, оно воспринимается как очередной шаг на пути самореализации — ив этом плане последние его опусы начинают восприниматься как своеобразная предсмертная записка, а сам акт — как программный документ, как выражение творческого кредо. В этом отношении жест Леве может сравниться по своей выразительной силе разве что с семью нечитаемыми письмами, написанными незадолго до самоубийства Бернаром Рекишо [5].)
Возвращаясь назад, к начальному призыву к сдержанности,— все же есть и вторая сторона медали: на откровенность принято отвечать откровенностью... и в данном случае, наверное, не стоит так уж корить себя за грешок волюнтаристского вычитывания из его текста своих смыслов и даже за вряд ли смертный грех вчитывания в него собственных... заморочек.
Да, я знаю, что, несмотря на все отговорки, поддался-таки этому греху, хотя и пытался его минимизировать, выдавать только то, что вышло на поверхность при письме, раз уж мне пришлось переписать русский текст за Леве... Да, мне нагляднее, чем когда-либо, не удалось здесь, в постскриптуме, изменить себе и проявить верность стилистике автора, о котором пишешь, то есть в нашем случае отсутствию, минимализации стиля,— но ведь, с другой стороны, следуя его уроку, можно — и должно — не стесняться, оставаясь собой. Не удалось, подобно Тома́ Клерку, продолжить чужое «на полях», продолжить в том же духе и развить, не получилось написать эти строки столь же просто и обнаженно, столь же безнадежно, как и вышеприведенные тексты; причиной тому, тешу себя иллюзией, не только моя неготовность к подобному невинному бесстыдству, но и слишком императивная в своей окончательности точка, поставленная автором; «Мое обнаженное я» Эдуара Леве постулирует свою уникальность, требует своей неповторимости и безответности.
И все же, напоследок, личное: совсем без него здесь было бы просто нечестно, тем более осознав к концу, что ты писал этот текст, постоянно оправдываясь за это... Совсем личное: мне давно хотелось издать (написать, перевести, составить, выдумать...) книгу, которую можно было бы посоветовать для чтения любому из знакомых, из которой каждый мог бы что-то вынести. Свершилось. Но... Познай самого себя, говорили, как говорят, когда-то греки; мне всегда этот совет казался вредным и даже опасным, в конечном счете ведущим к самостиранию...
Берегите себя.