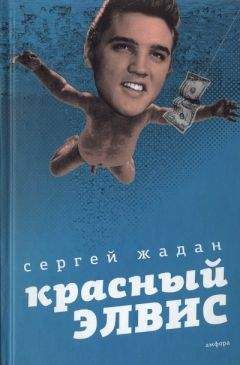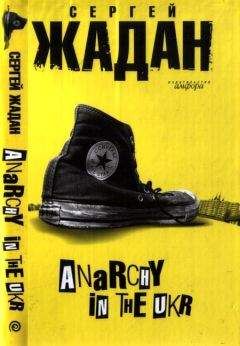Сергей Жадан - Ворошиловград
Мне это сразу что-то напомнило — эти мужчины, которые осторожно бредут по пояс в траве, разводя руками высокие стебли, пристально всматриваясь в сплетение побегов, прислушиваясь к голосам, что доносятся из чащи, выгоняют из травы напуганных птиц, напряженно пересекая бесконечное поле. Сосредоточенные спины, фигуры, замирающие в сумерках, белые рубашки, светящиеся в темноте.
Когда это было? Год 90-й, кажется. Да, 90-й. Лето. Домашняя победа над Ворошиловградом. Гол Травмированного на последних минутах. Лучшая его игра, наверное. Ресторан «Украина», возле парка, напротив пожарной станции. Какое-то, уже вечернее, празднование победы, рэкетиры и наши игроки, какие-то женщины в праздничных платьях, мужчины в белых рубашках и спортивных костюмах, официанты, кооператоры, мы, молодые, сидим за одним столом с бандитами, горячие волны алкоголя прокатываются сквозь голову, словно ты забегаешь в ночное море, тебя накрывает черной сладко-горькой волной, и на берег ты выбегаешь уже повзрослевшим. Ящики с водкой, бесконечный стол, за которым помещаются все, кого ты знаешь, громкая паршивая музыка, за окнами синие влажные сумерки, мокрые от дождя деревья, голоса, что сливаются и напоминают о дожде, тихие разговоры между мужчинами и женщинами, ощущение пропасти где-то совсем рядом, откуда дуют горячие невыносимые сквозняки, забивая дыхание и расширяя зрачки, подкожное ощущение тех невидимых жил, по которым течет кровь этого мира, и вдруг, среди всего этого золотого мерцания, взрывается стекло, и воздух рассыпается миллионом осколков — кто-то из ворошиловградских выследил наше празднование и запустил кирпичом в ресторанное окно, и оно сразу же разлетелось, и синяя ночь ввалилась в зал, отрезвляя головы и остужая кровь. И сразу, после короткой паузы, общее движение, злость в голосах, отвага, что пробивалась в каждом, шумное вываливание на улицу через дверь и в проем окна, стук туфель на мокром асфальте, белые рубашки, которые прыгают в сиреневую ночь и светятся оттуда, женские фигуры, напряженно всматривающиеся во тьму. Рэкетиры и кооператоры, футболисты и шпана из нового района — все рассыпаются в темноте и начинают прочесывать пустыри, что начинаются за парком, загоняя невидимую жертву в сторону реки, не давая ей выскользнуть, странная погоня, исполненная азарта и радости, никто не хочет отставать, каждый пристально вглядывается в черноту лета, пригибается к земле, стараясь высмотреть врага, за рекой горят далекие электрические огни, словно в траве прячутся желто-зеленые солнца. А тьма загустевает, будто кровь, и прогревается нашим дыханием, как двигателями внутреннего сгорания.
4
В ту ночь он спал глубоко и спокойно, словно кто-то перегонял сквозь него сны. Они прокатывались через него, как вагоны с мануфактурой через узловую станцию, и он просматривал их, как начальник станции, отчего вид у него был сосредоточенный и ответственный. Спал он на улице, на своей любимой катапульте, где вчера на ночь выпил принесенные мной витамины. Я притащил ему из вагончика старую шинель, накрыл его, однако ночью всё равно пару раз просыпался и приходил проверить, всё ли с ним в порядке. Возле ног его спали уличные псы, забредшие с трассы. По ночной площадке ветер гонял бумажные пакеты. На плечо ему садились птицы, а на открытые ладони заползали муравьи, слизывая с кожи красные витаминные пятна. Ночью в северном направлении отошли последние тучи, на небе высыпали созвездия, и погода снова напомнила о начале июня. Июнь в этих местах проходил быстро и насыщенно — стебли наполнялись горьковатым соком, и листва шелушилась, как кожа на холоде. С каждым днем становилось всё больше пыли и песка, которые попадали в обувь и складки одежды, скрипели на зубах и сыпались с волос. В июне воздух прогревался, словно армейские палатки, и начиналась теплая пора малоподвижных мужчин на улицах и шумных детей в водоемах. Уже утром стало понятно, что готовиться нужно к жаркому лету, которое будет длиться бесконечно и выжжет всё, что попадется под руку, включая кожу и волосы. И даже летние дожди никого не спасут.
Просыпался Коча долго и чувствовал себя с утра грустным, как в детстве, когда приходилось вставать вместе с родителями, которые спешили на работу и заставляли собираться на учебу. Проснувшись, походил вокруг гаража, покормил собак черным хлебом, задумчиво осмотрел долину и наконец пошел будить меня. Сев на соседний диван, долго рассказывал какие-то рваные случайные истории про свою бывшую жену, доставал фотокарточки, нашел где-то под кроватью дембельский альбом, обтянутый шинельным сукном, совал его мне. Я лениво отбивался и пытался снова заснуть, но после дембельского альбома это было не так-то просто. Наконец я поднялся и, завернувшись в колючее больничное одеяло, стал слушать. Коча рассказывал про любовь, про то, как встречался со своей будущей женой, про секс на переднем сиденье старой волги. Почему не на заднем? — спросил я его. — Все же всегда делают это на заднем? — Дружище, — пояснил Коча, — в старых волгах переднее сиденье — сплошное, как и заднее, поэтому нет никакой разницы, где этим заниматься, ясно? — Ясно, — ответил я ему, — нет никакой разницы. И Коча благодарно кивал головой: правильно, дружище, ты всё верно сечешь, — и с этим пошел варить чифирь.
Через какое-то время от заправки засигналила первая машина, Коча раздраженно нацепил очки и поспешил на выход.
— Коча, — сказал я ему, — давай помогу.
— Да ладно, Гер, — отмахнулся он, — с тебя такая помощь.
— Ну, какая есть.
— Ну, давай, — он ждал в дверях, пока я искал свою одежду. — Только надень что-нибудь. Куда ты в своих джинсах? У меня там под диваном есть что-то старое, поищи, ладно? — и ушел.
Под диваном у него были два чемодана, напиханные тряпьем. От них несло табаком и одеколоном. Я брезгливо покопался в первом чемодане, нашел черные армейские штаны, залатанные на коленях, но еще вполне товарного вида, с сильным одеколонным запахом. Открыл другой, вытащил бундесверовскую куртку, мятую, но не рваную. Натянул ее на плечи. Куртка была тесновата, Коча, наверное, поэтому ее и не носил, поскольку был примерно одной со мной комплекции. Но выбирать было особенно не из чего. Я посмотрел в окно. Отражение дробилось солнцем и почти исчезало в лучах. Можно было разглядеть только какие-то контуры, тень. Со стороны я походил на танкиста, чей танк давно сгорел, а желание воевать осталось. С этими мыслями и отправился работать.
В девять приехал Травмированный. Критически осмотрел мою рабочую одежду, хмыкнул и пошел к себе в гараж. Я по большому счету не столько помогал, сколько мешал, пару раз разлил бензин, долго разговаривал с каким-то дальнобойщиком, который гнал в Польшу, постоянно цеплял Кочу, не давая ему исполнять профессиональные обязанности. Наконец старик не выдержал и отправил меня к Травмированному. Тот всё понял, дал мне пропитанную бензином тряпку и приказал отчищать какой-то лом, облепленный илом, ржавчиной и масляной краской. За полчаса такой работы я совсем затосковал, все-таки многолетнее отсутствие физического труда давало о себе знать. Шура, — сказал Травмированному, — давай перекурим. — Тут не курят, — ответил на это Травмированный, — это же бензозаправка. — Ладно, — сказал он через минуту, — иди отдохни, потом вернешься. Я так и сделал.