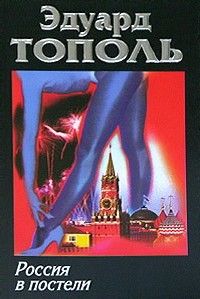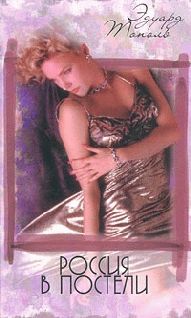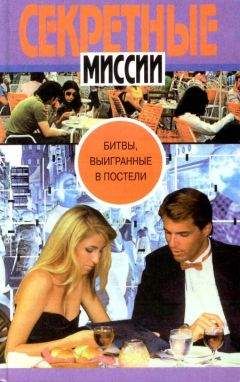Людмила Улицкая - Сонечка
Яся смеялась, плакала, вскрикивала: "Езус Мария!" - и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами.
А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений - "не удостаивает быть умной".
Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это было немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды.
В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку.
Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воем выскочила она в коридор, куда выходили двери еще семи мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки двух соседних дверей и понеслась с четвертого этажа вниз к телефону, который стоял в привратницкой.
Старуха с тонкой распутанной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее:
- "Скорую", скорее… "Скорую"…
И трясущимися руками набрала номер.
Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть.
Обстоятельства смерти были очевидны.
- Кровоизлияние в мозг, - буркнул толстый неприятный врач, пахнущий алкоголем и дурной едой. И написал телефон морга.
Громыхая непригодившимися носилками, санитары спустились вниз.
- Старик, а на бабе умер. Молоденькая, - сказал один.
- А что? Лучше, чем в больнице-то гнить, - отозвался второй.
***
Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей.
Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот небытовой, страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания двух бригад, медиков и труповозов, они быстро убрали.
Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать.
Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах: цветы, водку, деньги…
Попутно формировалось общественное мнение: Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали, с Соней было как-то сложнее, от нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным.
Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала:
- Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины. - И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники.
Барбизопец переглянулся с Гаврилиным. Кивнули.
Так все оно и было.
Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две. Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше.
На следующий день к двенадцати стал стекаться народ. И представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовлении парадных портретов кого надо, пришли средние, умеренно новой волны, пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены Союза, - шпана, лианозовщина, авангард драный.
Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению. Да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела.
Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое-неживое.
Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было, ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища.
Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались в раздевалке. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала:
- Да, такое горе… На нас свалилось такое горе…
А Тимлер, в обществе молодой любовницы пришедший проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом:
- Красиво как… Лия и Рахиль… Никогда не знал, как красива бывает Лия.
***
Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую.
Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданое колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после двадцати оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи она выучила французский, потом итальянский и немецкий - только к английскому питала странное отвращение - и все металась, покуда в середине семидесятых годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность в ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца.
В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет.