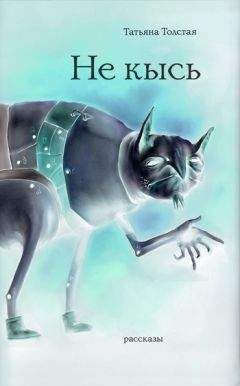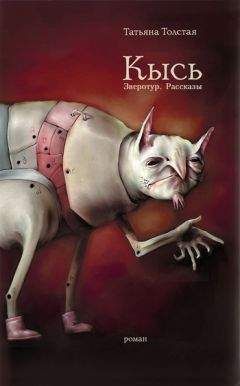Татьяна Толстая - Кысь
Свечки тоже зажгите чтоб светло и весело.
Всякой вкуснятины наварите-напеките не жалейте все равно скоро весна в лесу всего полно понавырастет.
Гостей зовите соседей, родню, всех угощайте, ничего не жалейте, не объедят, сами же тоже есть будете.
На дудках играйте кто сподручный, на колотушках, можно вприсядку у кого ноги в порядке.
На себя одежу хорошую наденьте, расфуфырьтесь, в волоса тоже повтыкайте чего ни попадя.
Может кому помыться охота дак я велю Бани открыть в дневное время пожалуйста заходи мойся но только дрова с собой приносите а то на вас не напасесси.
Интересно будет вот увидите.
КаблуковБенедикт перебелил Указ четырежды, отдал Оленьке бересту, чтобы буквицы покрасивее изукрасила, – плетеными ленточками, птичками и цветочками, потому как дело сурьезное, или как выразил Шакал, судьбоносное, – и сам просветлел и порадовался. И остальные голубчики, что в избе работали, тоже просветлели и словно бы выпрямились. А как же не порадоваться: весна на носу! Весна! Кто ж ее не любит! Самый захудалый, паршивый голубчик по весне охорашивается, добреет, на что-нибудь там свое надеется.
Вот пролежишь всю зиму на печи, в копоти да шелухе, да не снявши лаптей; да не мывшись, не чесавшись, – уж и нога-то от грязи как все равно валенок, – хоть сам любуйся, хоть соседям показывай; уж и борода-то вся гнездами пошла да колтунами – хоть мышей приглашай; уж и глазыньки-то чешуей поросли, – хоть пальцами раскрывай да придерживай, а не то захлопнутся, – а придет весна, выползет такой поутру, по весне-то, на двор, по нужде или как, – и потянет вдруг ветром сильным и сладким, будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идет кто невидимый и у калитки твоей остановился, а сам с подарками, – и стоит запселый мужик, и замер, и будто слушает, и ушам своим не верит: неужто, мол?.. Неужто?.. Стоит, глаза остекленели, борода звенит как ржавь на ветру, как колокольцы малые; рот разинул, а закрыть забыл; как взялся за портки, так и застыл, и от ног уж на снегу два круга черных протаяли, и уж птица-блядуница ему на волосья нагадила, а он стоит, безгрешный, первым ветром омытый, на золотом свету, а тени синие, а сосульки жаром горят и наперебой работают: кап-кап! кап-кап! трень-трень! – стоит, покуда сосед али сослуживец не окликнет, мимо идучи: «Чего торчишь, Эдуард? Али чем подавился?» – и рассмеется по-хорошему так, по-доброму, по-весеннему.
Первое Марта – это уж совсем скоро. Это на носу. Правда, еще морозы по ночам знатные, еще жди метелей, еще не раз придется разгребать снег, протаптывать тропку к избе наново, а то и проезжие дороги расчищать лопатами, ежели выпадет очередь на дорожную повинность, – а все равно, уж легче, уж конец видать, уж и дни вроде как длиннее стали.
Зима недаром злится –
Прошла ее пора,
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
Верно. Так и есть. Таперича надо деревце в лесу подобрать, как указал Федор Кузьмич, слава ему, и обмотать чем у кого завалялось. Голубчики в обеденный перерыв обсуждают: чем. Волнуются.
Ксеня-сирота рассуждает:
– У меня два ореха есть и ниток аршин пять в загашнике схоронено.
Константин Леонтьич мечтает:
– Я из бересты настригу фестонов и кружочков и сделаю симметричные гирлянды.
Варвара Лукинишна:
– Мне так видится: на самую верхушку – огнец, а пониже все бусы, бусы спиралями.
– А из чего бусы-то?
– Ну как… можно из глины шариков накатать и на нитку.
– Из глины?.. Зимой?..
Посмеялись.
– Хорошо горошек нанизать, если у кого запасено.
– Да, горошек было бы отлично. Полюбовался, – и съел. Еще полюбовался, – еще съел.
– Может, под праздник из Склада чего выдадут.
– Ага. Держи карман шире. Им самим надо.
– Голубчики! А может, у кохинорцев плетеные туески сменять?
– На что вы менять-то собрались? К весне все подчистую съедено.
– У кого как.
– А вы, Оленька, чем украшать думаете?
Оленька, как всегда, зарделась и потупилась.
– Мы? Мы – что ж… Мы – так… Как-нибудь… Чего-нибудь…
Бенедикт умилился. Стал представлять, как Оленька, в новой кацавейке, да в сарафане с пышными рукавами сидит за каким-то столом богатым, то взор в столешницу опустит, то на него, на Бенедикта, поглядывает, то на свечки зажженные посматривает, – а от тех свечек глазыньки у ней сияют да переливаются, а румянец во всю щеку так и пышет. И пробор в светлых волосах чистый, ровный, молочный, как небесное Веретено. На лбу у ей тесьма плетеная, цветная, а на той тесьме украшения, подвески покачиваются: по бокам височные кольца, а посередке камушек привешен голубенький, мутный, как слеза. На шейке тоже камушки, на нитку нанизаны, под самым подбородком туго-натуго завязаны, а подбородочек такой беленький, а посередь его ямочка. Вот сидит будто она где-то, словно новогоднее деревце разряженная, расфуфыренная, сама не шелохнется, а сама поглядывает…
А другая Оленька, что вот тут, в Рабочей Избе, картинки рисует и язык высунула, – она попроще, и личиком, и одежей, и повадками. А все равно и одна, и другая – все та же Оленька, и как это она так у Бенедикта в голове раздваивается, как это она видится да мерещится, – не понять.
Вроде как от простой Оленьки сонный образ какой отделяется, перед глазами висит, как марь, как морок, как колдовство какое. Не понять… Простую Оленьку и локтем в бок толкнуть можно, как водится, и шутку ей какую сказать, а то озорство учинить: пока она там рисует, – взять, подкрасться да и привязать ее за косу к тубарету, к ножке его. Коса у ей до полу, так оно и не сложно. Привстанет она – в нужный чулан отлучиться, али на обед, – а тубарет за ней ка-ак грохнется! Шутка веселая, сколько раз уж пробовали.
А с другой-то Оленькой, с волшебным видением, таких шуток не пошутишь, кулаком под ребра не пнешь, а что с ей делать нужно – неизвестно, а только из головы нейдет. А видение это всюду навязывается, – и на улице другой раз, особливо к вечеру, когда впотьмах домой пробираешься, и в избе… Так и представляется: открыл задубелую дверь, шагнул внутрь, – а там, в прокуренном, дымном воздухе, в теплом блинном чаду, посередь всех избяных запахов, – кислой мокрой шерсти, душной золы, еще чего-то привычного, домашнего, – посередь всего этого словно зарево какое, словно свечение слабое, – прямо в воздухе Оленька нарядная, как идол какой, – неподвижная, туго бусами замотанная, на молочный пробор расчесанная, только взор поблескивает, ресницы подрагивают, и во взоре тайна, и синее свечное пламя огоньками.
Фу-ты. И не отвяжешься.
…Да, вот голубчики, небось, будут Праздник Новый Год справлять, плясать да пировать, а у Бенедикта в избе, кроме старых носков, ничего не припасено. Да и гостей звать, угощать, – напряг большой. Чем кормить-то? Самое голодное время – весна. Бенедикт к весне всегда худел, ажно ребра выпирали. Цельный день на работе, и летом работа, – спозаранку в поле, запасы запасать. Измозолишься так, что письменная палочка из пальцев выскальзывает. Руки дрожат, и почерк плохой. Оттого-то летом писцам отпуск положен: какие из них, на хрен, работники. Летом писец, как простой голубчик, – косу на плечо и в поля, в луга, – хлебеду косить, хвощи. Снопы вязать. Навязал, – тащи в сарай, да опять, да еще, да сызнова, да еще раз, да бегом, бегом, – а пока отлучился, соседи али кто чужой непременно пару снопов попрут, кто с поля, а кто прямо из сарая. Но это ничего: они у меня украдут, я, обозлимшись, у них, те у этих, эти у тех, – как по кругу, ан и выйдет справедливость. Вроде все друг друга обворовамши, а вроде все при своем. Более или менее. Это, как выражается Никита Иваныч, стихийное перераспределение личного имущества. А наверно так.