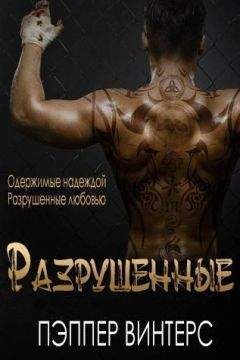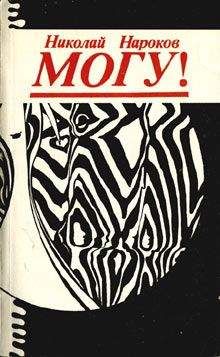Анджей Брыхт - Дансинг в ставке Гитлера
Я думал о них растроганно, потому что пропустил уже несколько рюмок. Бог свидетель, я не хотел пить, это как-то само собой вышло, оттого, что на столе появилась бутылка коньяку, которого я в жизни не пил, я вообще-то пил мало и пробовал только водку, вино «Тур» и вермут «Зелена Гура» — семнадцать злотых бутылка, а тут вижу вдруг перед собой обычную поллитровку с золотой наклейкой и звездочками, и бутылка эта стоит пятьсот злотых — простому человеку десять дней работать, все равно где: на фабрике или в конторе, меня при виде ее прямо в дрожь кинуло, и я сначала не хотел пить, слово себе дал, что не буду, потому что это ужасная гнусность — лакать такую дорогую штуку, когда другой дай бог как вкалывает и в жизни не сможет себе позволить этакую сумасшедшую роскошь, но потом, когда немец начал выкобениваться из-за рюмок — ему, видите ли, рюмки не понравились, коньяк-то, оказывается, пьют из маленьких круглых или из больших на короткой ножке, тоже круглых, только сужающихся кверху, а тут подали стаканчики по сто граммов, как для простой водяры, ну я и подумал про себя: если уж ты так выдрючиваешься, то я тебе покажу, в конце концов, парень я молодой и такая дорогая водка, будь то хоть коньяк, хоть кобыльяк, наверняка послабее нашей пролетарской, и я не окосею, поэтому я быстро налил эти стопки дополна и, прежде чем они успели что-нибудь сказать, поднял свою бадью и сказал:
— За здоровье гостя из соседней страны!
И одним махом плеснул себе в глотку, и гладко так прошло, разве что горько, будто пробки в этом коньяке размачивали или еще что. Тост мой был ехидный, потому что какой она нам сосед, Западная Германия, мы же с ГДР граничим, но немец не разобрался, во всяком случае не обиделся, только смеялся во все горло и хлопал меня по спине, словно я подавился. Зато Анка пнула меня под столом и сказала:
— Как ты себя ведешь? Мне стыдно за тебя!
— Виноват, — говорю, — а я что, обидел кого?
Она на это:
— Никого не обидел, а пьешь, как сапожник! Это же коньяк, благородный напиток, его пьют медленно, вот так…
С этими словами она взяла свой стаканчик и обмочила губы, раза два языком поцокала, прикрыла глаза и улыбнулась немцу.
Потом появился толстый, низенький тип в черном костюме, осыпанном перхотью, и достал из кармана маленькие круглые рюмки.
— Я заведую здешним рестораном «Волчья яма», — представился он. — Если вы иностранный гость, то я принес специальные рюмки для коньяка, — обратился он к немцу и подчеркнул: — Собственные. Личные.
И видя удивленное лицо немца, добавил по-немецки, чтобы немец полностью оценил его подвиг:
— Дер привате рюмкен, ферштейн?
Потом обратился к Анке:
— Я вообще-то из иностранных языков только русский знаю, но с грехом пополам и с немецким справляюсь. Особливо с западногерманским.
Он ухмыльнулся, опустил глаза, быстро поклонился раз пять и уходя бросил:
— Покорнейше прошу не побить, иначе меня жена дома побьет…
Тут-то и началось питье. Назло Анке я одним духом опорожнил свою рюмку, а немец то и дело подливал мне, ужасно довольный. Вскоре появилась вторая бутылка, и я без промедления поднабрался — так приятно мне стало, я откинулся на спинку стула и стал разглядывать зал, а ребята как раз начали играть. Сходу посыпались заявки, потому что пьяных было уже порядком, и каждый хотел хорошенько потискать свою дамочку…
Пары танцевали смешные, подобранные нелепо: толстый тип с низенькой тонкой девчонкой, пугающейся огромного брюха своего партнера, желторотый деревенский парнишка с красоткой из Белостока, увешанной сверкающим чешским стеклом. Уже немолодые гуляки из-под Кельцов то и дело выкрикивали:
— Да здравствует Келецкое воеводство!
И как только они не танцевали — красные, взмокшие. То мизинчик этак отставлен, а то палец круто вверх торчит, то левая ножка подрыгивает, и с пришаркиванием-то и с притопом… А какие тут моды, какие стили, что за ужимки и выкрутасы, и вроде каждый из высших сфер, и словно всяк значит больше, чем на самом деле, так что и весело глядеть и тошно. Но больше весело.
Кончилась музыка, почтенная компания, набравшаяся местным дешевым вином и мятным ликером, покачиваясь, расходится к столикам с висящими над ними пластами дыма, хлопает в потные ладоши и кричит:
— Бис!
Тогда малый с тромбоном обращается к дорогим гостям:
— Миуточку вни’ания, по осо’ому заказу пана ди’ектора Юзека для пьелестной пани Яси к’асивая песенка пон’названием «Может, в Мексику кинет нас судьбою…»
Снова аплодисменты, все бросаются в середину зала, заведующий Юзек танцует в кругу с прелестной пани Ясей, это лично их танец, оплаченный сотенной, их интимная поэзия.
Тромбонист поет в слегка потрескивающий микрофон, прижимая его к себе, как собачью морду, вроде и близко держит, а все же на расстоянии:
Может, в Мексику кинет нас судьбою,
голос прерий зовет нас и манит!
Где костры, где индейцы — мы с тобою,
и два сердца любовь соединит!
Тринадцать куплетов у этой песни, мне-то известно, я ее теперь наизусть знаю, весь наш взвод в армии ее пел, но тромбонист оторвал только три куплета, больше его не устраивало, и все равно аплодисменты, крики восторга…
Тогда худой тромбонист с козлиной бородкой исполняет свой коронный номер, этаким проникновенным говорком, с этим чудным особым акцентом:
— Миуточку н’нимання! С той поры как финикийцы п’идумали деньги, вы’ажепие одоб’ения аплодисментами ста’о абсаютна из’ишним…
Восторг в зале:
— Верно говорит, дать ему водки!
Немец смеется и радуется, как ребенок.
— Весело у вас! — говорит он.
— А у вас? — цепляюсь я.
— У нас? Весело!
— Вот и у нас тоже! — говорю я и начинаю смеяться.
Играют блюз, спокойный, медленный. Немец встает и кланяется Анке. Она вдруг краснеет, вставая, задевает меня взглядом, по опускает глаза и уходит в толпу танцующих, уже заслоненная рослой фигурой немца.
Я остался один, выпил две рюмки и время от времени смотрел на танцующих; немец был самый высокий, голова его покачивалась над сопящей толпой, улыбающееся лицо, загорелое, с белоснежными зубами, ритмично покачивалось из стороны в сторону, будто отрезанное от туловища и подвешенное в пустоте. Анки вовсе не было видно, кажется, раз только мелькнула прядь ее волос, но это могли быть волосы совсем другой женщины.
Одну руку он положил на Анкину руку, другую — на мою. От него шел крутой, плотский жар. Он сказал:
— Любите друг друга. Это хорошо. Это очень хорошо. Ничто на свете не значит так много, как любовь. Я хотел бы, чтобы вам…
— Откуда вы знаете, — перебил я, — что мы любим друг друга?
— Это мне по секрету сказала пани Анка. Но я не сохраняю таких тайн. Любовь не должна быть тайной. Ее нужно высоко нести над собой, как знамя. Так говорят поэты, и так говорят люди пожилые, опытные, которые многое повидали. И так говорю я. Я хотел бы, чтобы вам…
— Вы вовсе не старый, — засмеялась Анка. — Значит, тогда вы поэт?
— Нет, — ответил он. — Я простой человек, но в жизни многое видел. Так вот, я хотел бы, чтобы вам…
— Расскажите что-нибудь о себе, — сказала умильно Анка и положила свою ладонь на его руку, так как он все еще не отпускал нас.
— Человек вообще-то всегда и исключительно говорит о себе, — сказал он, мягко выпустив наши руки, коротко пожав их на прощанье, и закурил сигарету.
Анка, не спрашивая, потянулась к его пачке.
— О, виноват, — сказал он.
— Ничего. Откуда же вы знаете польский?
Он сперва дал ей прикурить, потом сам глубоко затянулся и, выпуская дым, ответил:
— Я родился в селении Шварцштейн. Это очень старая деревня. Там когда-то была священная роща пруссов, а на месте ее крестоносцы построили небольшую готическую церковку. Тогда дьявол страшно рассердился, схватил огромный черный камень и бегом побежал с ним, чтобы разрушить церковь. Но прежде чем он успел подбежать, запели утренние петухи, и дьявол бросил камень в лес. От этого черного камня и возникло название деревни — Шварцштейн.
Мы внимательно слушали его сквозь винные пары, потому что он говорил полуироническим-полусказочным тоном, будто старое предание рассказывал.
— Это очень красивая легенда, — сказала Анка. — Но откуда польский язык?
— Дьявола вообще очень привлекал Шварцштейн, — продолжал он. — Еще в девятнадцатом веке в церкви висели подковы как доказательство других бесовских козней. Как гласит предание, жила в Эйхмедиене корчмарка, обманывавшая своих клиентов. Едва начинался спор, она обычно призывала в свидетели дьявола. И вот как-то он примчался на ее зов и в наказание превратил ее в коня. Превратил и помчал на этом коне к кузнецу в Шварцштейн, чтобы подковать своего скакуна. Когда в кузнице конь заговорил человеческим голосом, перепуганный кузнец бросил инструмент, но дьявол заставил его продолжать свое дело. Подковывали заколдованную корчмарку до самой полуночи, а когда запел петух, волшебство перестало действовать, и конь опять превратился в человека. Разгневанный дьявол в сердцах ударил корчмарку, которая из-за этого скончалась спустя полгода. А выкованные для нее подковы повесили в церкви.