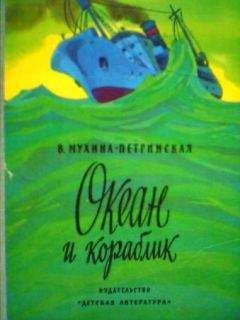Валентина Мухина-Петринская - Путешествие вокруг вулкана
Мы подошли к руднику в полдень. Кое-где еще сохранились по берегам ручья следы труда старателей — отвалы промытой породы. Вот старая обрушенная штольня, рядом окаменевшие отвалы, остатки шлихов. Потемневшие избы из бревен лиственницы по полтора метра в поперечнике стояли несокрушимо, даже стекла в окнах кое-где сохранились, но разросшиеся кустарники и травы загородили вход в двери, а на крышах выросла трава. Синие скалы светлели среди темных зарослей. Высокая каменистая гора — потухший вулкан, — поросшая редким стлаником, вздымалась неподалеку, загораживая собой добрых полнеба. Пустынно и дико было вокруг.
— Змей здесь не водится? — шутливо спросила я.
— Как будто нет, — нерешительно ответила Мария Кирилловна.
Кузя стал опять щелкать аппаратом. А заметно разволновавшийся Стрельцов разглядывал избы.
— Вон в той я жил! — кивнул он на избушку под скалой. — Я первым пришел. Сезона два здесь старался. Жизнь тогда здесь кипела. Кабаков одних сколько было! Все золото там и оставляли. Это было в 1923 году!
— Нэп! — глубокомысленно покачал головой Кузя.
Мы нашли подходящее место и сели немного отдохнуть и подкрепиться, так как уже проголодались. Потом запили водой из холодного родничка.
— Я тогда жил с одной женщиной, Василисой ее звали… Впрочем, это, кажется, кличка! — вспоминал Стрельцов. Он даже помолодел, голубые глаза его блистали, морщины от возбуждения разгладились.
— Василиса Прекрасная! — подсказала я.
— Она была красивая, но непутевая. Бродяжка!! Ушла от меня к китайцу Ван-Хай-лину. Он держал зимовье и торговал опиумом — за чистый золотой песок. Оба плохо кончили, когда сюда добралось ГПУ.
После завтрака мы заглянули в избушку Стрельцова, изрядно исцарапавшись о колючий кустарник. Распахнутая дверь покосилась и вросла в землю. Черные пауки свили здесь гнездо. Огромная русская печь зияла черным жерлом. На шестке еще стояли чугуны, рядом в углу, — ухваты и сковородник. Стол, топчаны, табуреты, грубо сбитые, но прочные, казалось, ожидали, чтоб их помыли и снова ими пользовались. Мы в нерешительности постояли на пороге. Только Стрельцов с грустным видом походил по избе. Все же она была крепка, даже пол не провалился. Здесь мог бы жить медведь со своим семейством! Скоро мы вышли на воздух.
Марию Кирилловну интересовал лес, она делала какие-то пометки в записной книжке. Кузю — пейзаж, он то и дело перезаряжал фотоаппарат. Григорий Иванович весь ушел в воспоминания и казался рассеянным.
— Давайте поднимемся на эту гору! — предложил Кузя.
— Наверное, такой вид!
Мария Кирилловна кивнула головой. Они направились к горе.
— Я похожу здесь! — крикнула я вдогонку.
— Только осторожнее! — на всякий случай сказала Пинегина. И они ушли, все трое. Скоро и голосов их не стало слышно.
Оставшись одна, я, очень довольная, пошла по улице, обходя кусты и камни. Я с детства любила блуждать одна по незнакомым местам, наслаждаясь ощущением открытия. Сколько я таких «открытий» сделала в Подмосковье! Я знала, что с горы вид изумительный, но рудник влек меня заброшенностью и предчувствием тайны. Когда-то здесь жили люди. Они трудились, любили, ненавидели, мечтали, надеялись, сомневались и верили, плакали и смеялись, женились и умирали. Неужели ничего от них не осталось? А когда рудник вновь оживет после сорокалетнего сна, здесь будут другие люди, другие нравы, другие мечты и сомнения. И любовь их будет другая, и ненависть, и дружба, и самый труд. И новые песни будут звучать на этих улицах… Я подошла к одной избе… не знаю до сих пор, почему я выбрала ее. Ничем она не выделялась среди других бревенчатых изб. Дверь была в исправности. Я открыла ее и вошла. Уже открывая, я ощутила дрожь во всем теле — мне стало страшно… Но я уже вошла. Посреди избы стоял Харитон и настороженно смотрел на меня.
Как он изменился! Я едва узнала его. Оброс русой бородой, исхудал, оборвался. Но главное — глаза!!! Если бы вы только видели эти одичавшие, почти безумные глаза! Они странно посветлели, будто выгорели. Зрачок был узок, как у кошки…
От ужаса я закричала. Он сразу заткнул мне рот шершавой горячей рукой.
— Таиска! Не ори. Слышь!
Я замолчала, и он выпустил меня.
— Кто еще здесь, кроме Григория Ивановича? Я узнал его голос.
— Наш студент Колесников и Мария Кирилловна.
— Лесничиха?
Лицо его исказилось: не то страхом, не то еще каким-то смутным чувством.
— Она… не войдет сюда?
— Не знаю, сейчас они на горе. Их видно отсюда.
— Крепкая! Только похоронила мужа и…
— Харитон! Разве ты не знаешь? Ты же его не убил, только ранил. Зачем ты это сделал? Ефрем Георгиевич уже поправился. Он уехал в санаторий.
Да, Харитон не знал… Так я и думала: он жестоко раскаялся в своем преступлении. С минуту он широко открытыми светлосерыми глазами смотрел на меня — еще не верил. До чего же он был похож на Василия! Василия, жалкого, одинокого, ошибающегося. А таким я видела его в тот день, когда он отказался от меня и вернулся к жене, которую не любил.
Харитон пошатнулся. Как слепой, он нащупал стол, скамью рядом и не сел — упал на нее. Он заплакал, не закрывая лица, не стесняясь облегчающих слез.
— Не убил! Не убил! — бормотал он сквозь слезы. Мощные плечи его вздрагивали.
Не знаю, может, не пристало комсомолке жалеть хулигана и браконьера, покушавшегося на убийство, но я, не раздумывая, бросилась к Харитону, обхватила его лохматую, нечесаную голову и крепко прижала к себе. Он выплакался у меня на плече, потом благодарно и смущенно посмотрел на меня.
— Не брезгаешь? Спасибо! Значит, любишь Ваську-то.
Он улыбнулся сквозь слезы. Вытер лицо рукавом. Не время было объяснять ему мое отношение к его старшему брату. Пусть думает, что я его невеста, так для Харитона лучше.
— Харитон! — сказала я. — Идем с нами! Он испуганно взглянул на меня.
— Там же лесничиха? Как можно! Когда я ее мужа…
— Я ей все объясню. Скажу, что ты раскаялся! Я ведь видела…
— Не поверят. Мало ли что раскаялся. Так бы каждый: нашкодил, а потом раскаялся. Я, Таиса, не хотел его убивать. Хотел только попугать малость. Я сильно рассерчал на него. Давно уже серчал. Он хотел вести меня к начальнику милиции. А тот предупредил меня: если еще раз попадешься — засудим. Теперь все равно засадят меня в тюрьму, — закончил он упавшим голосом.
— Да нет же, Пинегин ведь жив!
— Ну и что? Слава богу, что жив. Я так рад, так рад! Ох, тяжко, когда человека убьешь. Совесть, она, знаешь… Особенно ночью. Страшно! Не раз думал руки на себя наложить. Значит, жив?! Только все равно будут судить меня за убийство. Покушался на человека — никуда не денешься.
Застукал меня Ефрем на месте. Лося я как раз свежевал… Разозлился он, будто из его хлева увел. Аж позеленел весь, Ефрем-то. Думаю, что ты за человек, больше всех тебе надо — тайги, что ли, мало на всех? Хотел припугнуть, я ведь меткий, стрельнул мимо него, а он как раз в эту сторону отшатнись… Смотрю — упал бездыханный… Ну, думаю, конец! И Ефрему конец, и мне конец!.. Бросил того лося, а Ефрема отнес на опушку… Под сосной положил… Жалко мне стало Ефрема. Он был мертв. Не понимаю, как он оживел? Посмотри, не идет лесничиха?
Я вышла взглянуть. На вершине горы стояли три крохотных человечка — все-таки далеко! Я снова вернулась в избу и тоже села на скамью. У меня ноги подкашивались.
— Что я за парень? Изварначился весь, — снова заговорил Харитон. — Сижу тут один, как волк, и маракую, как быть? По кривой дороге я пошел. Теперь не свернуть. Тюрьма — неминучее дело. Мать-то похоронили?
— Похоронили. А откуда ты знаешь, что она умерла?
— Люди добрые сказали. Помог мне тут один кореш, на моторной лодке подбросил.
— Василий приезжал…
— Братуха, да ну? Эх, не довелось встретиться!
— Хочешь, напиши ему письмо… у меня есть карандаш и бумага.
— Не могу… Сама напиши ему.
— Напишу. Но что же ты будешь делать дальше?
Я стала уговаривать этого непутевого парня ехать с нами, добровольно явиться в милицию. Но он отказался ехать. Из-за Марии Кирилловны…
— Что ж ты будешь делать? — упавшим голосом спросила я. Харитон задумчиво смотрел на меня.
— Нет ли у тебя хлебца? — неожиданно попросил он. У меня, что называется, сердце перевернулось.
— Есть. Там остался. Сейчас принесу. — Я бросилась к месту нашего привала и забрала все, что у нас было с собой из провизии: хлеб, жареная рыба, вареные яйца, оладьи, кусок копченого медвежьего окорока. Харитон стал с жадностью есть.
— Чем же ты питался все это время? — с острой жалостью спросила я.
— Охочусь. Соли-то я с собой взял, пока тянется, а вот хлеб давно вышел.
Пока он ел, я опять выскочила на улицу. На горе уже никого не было: наши спускались. Я сказала ему об этом.
— Спрячусь в кусты! — заторопился он. Я даже разозлилась.