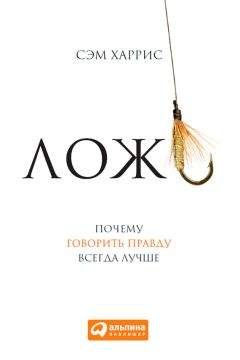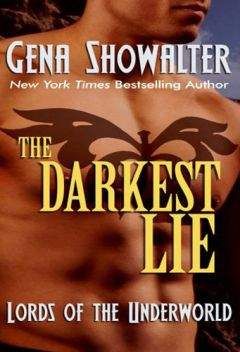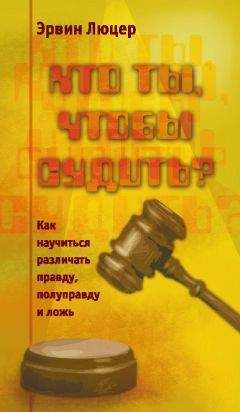Анатолий Ким - Соловьиное эхо
Нет, такой она раньше не была. Любила в доме деятельный, спокойный порядок, а теперь у нее и нового сожителя был всегда некий искусственный, беспокойный праздник, вернее постоянное вроде бы приуготовление к празднику, веселью, «хорошо проведенному вечеру». Они жили, как бы жадно хватая все, что под руку попадется, словно втайне боялись, что не дадут им испытать то, чего хочется, и готовы были испытать это хотя бы наспех, кое-как, кувырком, лишь бы успеть… И выбор нового спутника жизни был сделан женою именно из расчета приобрести себе партнера по этой оголтелой жизненной гонке, по стезе удовлетворения самых разнообразных желаний – я для такой гонки уже не годился, слишком прост был и неповоротлив и зарабатывал маловато.
Такими же, как она, были все те, с которыми жена теперь зналась. Они могли существовать лишь не очень многочисленными компаниями, теряясь как перед одиночеством, так и перед большим скоплением народа. Существуют такие жучки, их можно увидеть в каком-нибудь самом неожиданном месте: на придорожном столбе, под стеною сарая, на какой-нибудь полусгнившей колодине у опушки леса, их в народе называют «пожарниками», очевидно за ярко-красный цвет их надкрылий, испещренных черными точками. Никогда я не видел, чтобы они летали, не слыхал, какую пользу они приносят, но и не слыхал, чтобы они приносили какой-нибудь вред. Обычно они сидят, сгрудившись небольшими сообществами, и греются на солнышке. Однако, несмотря на свою любовь к праздной неподвижности, они шустро разбегаются при появлении какой-нибудь опасности. И вид у каждого довольно смышленый. Сколько их на свете, никто не считал, но за последнее время их становится все больше и больше.
В человеческом варианте сия никчемная сила природы проявляется так, что каждый воплощающий ее «пожарник» испытывает неодолимое отвращение ко всякого рода творчеству – как художественному, преобразующему первозданную материю качественно, так и ремесленному, увеличивающему ее количественно. Но все они очень любят комфорт, благополучие, всегда стремятся ухватиться за что-нибудь, пока есть время, и прежде всего за плотные материальные вещи, ибо им не за что больше уцепиться. И, наблюдая за ними, я порою с грустью думал, что все усилия художников мира, которых я знал, пошли прахом.
…Но всего этого я не мог высказать даже единокровному брату. Я лишь просил, чтобы он отдал мне бумаги деда. Брат раньше преподавал немецкий язык в школе и после смерти бабушки Ольги забрал записки Отто Мейснера, чтобы почитать их. За время службы в армии я на досуге усердно изучал немецкий и теперь мог бы и сам разобраться в документах деда…
– Что ж, забирай, – ответил брат, утомленно зевнув. – Признаться, я их еще не читал, времени все не было. Любопытно будет узнать, что это был за человек… Потом мне расскажешь.
Разговор происходил в кабинете, затемненном чуть дышавшими на сквозняке шторами, – как бы на островке, вернее, в уединенной пещерке тишины, прохлады и порядка (мир внешний, откуда пришел я, дышал жаром необыкновенно засушливого лета, а во всем здании ровно еще продолжался ремонт, пыль клубилась в косых столбах света, ступени лестниц были припудрены алебастром и где-то резали стальной пилкой водопроводную трубу), мы сидели по разные стороны широкого стола, полированная плоскость которого холодно блистала, новые кожаные кресла стояли вокруг в строгой симметрии. Мой двоюродный брат, созидатель этого казенного уюта и образцового порядка, был бледен, веснушчат, скуласт и круглолиц, в чистой голубой рубашке с короткими рукавами. Над глубокими залысинами его лба сквозняк шевелил рыжие волосы, в которых уже паучок времени кое-где соткал серебряную паутинку. Брат был, как и я, склонен к ранней седине, что унаследовали мы, должно быть, от бабушки Ольги – она всегда предстает в моей памяти с белоснежной головою, в белой кофточке и юбке – траурной и посмертной одежде корейских стариков, которую она постоянно носила. Рядом с моим братцем в удобном коричневом кресле сидел наш дед Отто Мейснер, держа на коленях тросточку и фетровый котелок, и выглядел магистр философии моложе своих седеющих внуков. Так, по крайней мере, привиделось мне, ибо я полагал, как и все в нашем роду, что благородного магистра постигла смерть в далекое знойное лето 1914 года. Сама бабушка Ольга говорила то же самое и еще: что был он человеком слишком деликатным и по натуре «прямым как палка», и чересчур гордым и нежным, чтобы долго жить на этом свете.
Он терпеть не мог, например, когда прикасались к нему, толкали или даже просто разглядывали его с достаточной назойливостью… И мне призрачный дед-философ, такой, каким представился рядом со своим чиновным внуком, был понятнее и ближе реально существующего двоюродного брата. И я вспомнил, что всего лишь несколько дней назад, бегая по Москве, охваченный адской духотой и запахом гари, вдруг впервые представил себе деда, которого никогда не видел, и пытался мысленно обращаться к нему. Мне вдруг открылось то, над чем никогда раньше я и не пытался размышлять: его приуготовленное судьбою страшное одиночество перед концом…
Где-то вблизи Москвы и далее по соседним областям горели торфяные болота, едкий дым стлался над прахом и сушью городского камня, тревожа людей; я стоял на краю огромной площади, и стучала, билась на виске моем пульсирующая жилка. И где-то шли эти обывательские разговоры о дымном экране в атмосфере, об астероиде. И мне тогда подумалось, что, пожалуй, не только желание как-то внутренне оправдать свою неряшливую алчность и торопливое цапанье благ земных заставляет моих «пожарников» столь мрачно рассуждать о будущем человечества, – как я считал раньше… А вдруг они и на самом деле верят в близкий конец света и живут в ожидании надвигающейся катастрофы? Должно быть, «пожарники» всех веков и эпох верили в это, поэтому время от времени предрекали наступление дня, когда раздастся трубный глас, заворачивались в белые простыни и на рассвете ползли в сторону кладбища. Потому и всякое творчество становилось для них бессмысленным. И моя соломоволосая жена, с двумя алыми лепестками умело раскрашенных губ, разлюбившая меня и кое-как защитившая диссертацию, а потом и думать забывшая про науку, была скорее фигурой трагической, нежели сатирической.
Верить или не верить? (Вопрос чисто религиозный, религию эту определили уже давно, и Лев Толстой об этом же говорил в своих трактатах: братство, единение…) Нехорошо было тогда в Москве, скверно у меня на душе, сизая мрачная мгла заволакивала яростный зрачок солнца, и необычный для города запах горящих болот словно проникал через нос напрямик к мозгам, порождая в голове угрюмую, сумасшедшую мысль, что уже горим, – Земля горит, тлеет под ногами, словно тюк пакли. Так верить или не верить? Поддается ли какой-нибудь нравственной оценке подлинное человеческое отчаяние? Отвечает ли за себя человек, когда вдруг утрачивает веру в добро? В те дни, получив как-то зарплату на новой работе в…ском музее, я расписывался в ведомости и, выводя привычную для себя подпись с длинным росчерком – Меснер, вдруг подумал: почему, откуда эта странная фамилия пришла ко мне и почему я, именно я, стал обладателем ее?… В глубокой задумчивости сунул свои деньги в карман брюк сзади, да так и застыл с открытым ртом возле кассы. Словно стукнули меня молотком по голове; мне вполне стало ясно, почему дед решился на это, я даже увидел, как меркнет, меркнет свет в глазах и стремительно темнеет оставляемый навечно мир, но никак не может угаснуть окончательно, – словно высшая тайна жизни в том, что свету ее никогда не быть поглощенному тьмою…
И вот теперь, сидя в образцовом кабинете двоюродного брата, заврайоно, рядом с ним и с еле различимым в полумгле кабинета призраком деда, я почувствовал, что всех нас троих, таких похожих, спокойных, с фамильными чертами непреклонности и воли на лице, гложет изнутри одна и та же неизбывная тревога нашего двадцатого века. И я испытал мгновенную обжигающую жалость и к измотанному брату-служаке, и к бесплотному деду-философу, от которого не падала даже тень на коричневую спинку кресла, и к себе самому.
Глава 9
Он направился к реке, решив пробираться глухими закоулками к зданию полицейского управления, куда хотел сдать револьвер. За последним домом улицы, кончавшейся поворотом крутого спуска к реке, на травянистой высотке стоял одинокий кочевник с верблюдом в поводу. Покрытые одинакового цвета пылью – или одинаково вылинявшие под солнцем степных пустынь, – сей кочевник в кожухе и верблюд в потертой во многих местах шкуре были оба цвета древнего праха, словно только что вышли из седых библейских глубин. Но, оглянувшись и вдохновенно уставясь на магистра узкими глазами, этот живой сколок неподвижной Азии вдруг протяжно и мелодично запел – может быть, о том, как дивно выглядят баржи на голубой широкой Волге и сколь обильно богатство человеческое, плывущее в бесчисленных кораблях по воде. Узрев же отрешенное лицо Отто Мейснера и спохватившись, что песнь его может быть не понята бледным человеком в шляпе, кочевник вновь отвернулся к реке, запел уже для одного себя. Верблюд перетирал во рту жвачку, ворочая серой, обросшей волосками нижней губою, полуприкрыв ресницами дикие глаза, и конец одного горба его свисал в сторону, как истощенная грудь женщины. Магистр прошел мимо них, зная, что все они трое фантомы друг для друга – томительные видения из другой действительности.