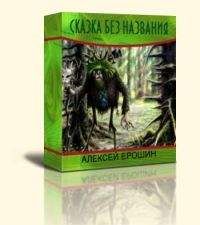Перихан Магден - Компаньонка
Нервно отвечаю ей:
— Ты неправа. Если художник хороший, то и влюбленную женщину он изобразит прекрасной. Скажем, в «Анне Карениной» женщина влюблена, но безобразной не кажется. А ты, значит, всех, кроме матери… — тут я поспешно смолкаю, не договорив: слишком опасна тема. — А ты, значит, не любишь влюбленных женщин. Каренина, конечно, — роман про Левина, то есть про самого Толстого. Но я лично читала эту книгу только ради сцен с Анной.
— Ладно-ладно. Бог с ней, с книжкой с этой. Давай лучше иди сюда, смотри, какая вкуснятина.
Глубоко вздыхаю.
— Я по утрам не голодная.
— Как это ты не голодная? Уже одиннадцать. И даже больше. Вот я лично голодна как волк. Хватит рассуждать, садись, ешь.
Она уписывает тосты так, что у меня просыпается аппетит. Делаю себе бутерброд с ветчиной и сыром.
Странно, она совсем забыла о вчерашней сцене в баре. Она — зверек, дикий зверек без страха и памяти… Зверек, от которого не знаешь, чего ожидать… Это пугает. Меня теперь все больше и больше пугает почти все, даже самое обычное из того, что я переживаю с ней. Вдруг вспоминаются слова Мэри Джейн: «Она боится. Боится собственной дочери. Любить — одно, а бояться — другое». Мне делается жутко. Чувствую, будто за мной кто-то гонится, а спрятаться некуда.
— Такой сон странный снился. Будто двое каких-то людей бросили меня в кузов огромного грузовика. Ой, вспомнила, кто это был! Тамара и мой идиот-дядюшка. Да-да, это были они! Ты с обоими познакомилась, да?
Хочется сейчас быть с Дональдом Карром. Не с ней. Интересно, он уже переспал с Мэри Джейн? От ревности только хуже.
— Почему ты не слушаешь? Ты с обоими познакомилась, чтобы стать моей компаньонкой? Да?
Ее голос доносится отрывочно. Как она сразу чувствует? Как ей удается сразу, всегда, постоянно — все чувствовать, все знать? Почему она не может на пять минут оставить меня наедине с собой?
Она не может меня оставить. Она боится.
Боится, что я ее брошу. И она права.
— Если хочешь, я буду молчать. Если тебе скучно со мной разговаривать… Если хочешь. Возвращайся к себе в каюту.
— Нет-нет. Я задумалась. И что дальше было? Кидают тебя в кузов огромного грузовика…
— У меня живот болит.
Достает из тумбочки у кровати шкатулочку, инкрустированную полудрагоценными камнями в форме дракона. Берет пригоршню лекарств и отправляет их в рот. Запивает апельсиновым соком.
— Ты сколько таблеток проглотила?!
— У меня привычка такая, — отвечает она. И, глядя перед собой, тихо добавляет: — Всего-то надо пять-шесть штук…
— Разве пять-шесть таблеток от больного живота не портят желудок?
— Это не от живота. Послушай… Я не хочу тебя расстраивать. Не хочу тебя расстраивать, тебе надоедать, утомлять тебя… не хочу, поверь. Я хочу, чтобы ты меня любила. Так, как я тебя. Чтобы чувствовала потребность во мне так, как я чувствую. Об этом трудно говорить. Но ты и так меня понимаешь.
Вздыхаю.
— Иди, малыш, сядь рядом со мной.
Она садится рядом, утыкается головой мне в плечо, а ноги кладет мне на колени.
— Расскажи мне подробно про свой сон. Кто там тебя куда кидал? Давай по порядку.
Она принимается рассказывать и грызет при этом ногти на правой руке.
— Ну вот, снится мне, будто Тамара с дядей бросают меня в грузовик. Мне очень страшно. В грузовике оказывается мой дедушка, а с ним — собака длиной метра полтора. Как сосиска. Морда у нее нормальная. Весело машет мне хвостиком. Но тело такое страшное, что мне не хотелось даже смотреть на нее. А дедушка как закричит: «Это твой подарок на день рождения! Ты должна быть рада! Ты же моя внучка!» И тут собака прыгает на меня. Мне делается еще страшнее: собака такая противная, так хочется убежать, а из грузовика не выбраться. Потом откуда-то появляется мой отец; у него был стакан виски, как при жизни. Руки у него дрожат, как всегда, и льдинки в стакане стучат. Он, как обычно, пьяный. Я подбежала к нему. Обняла. Он почему-то дрожал всем телом, а потом сказал: «Вот твой подарок на день рождения! Бери его!» И показал мне мамину фотографию, только у нее вместо рук были кошачьи лапы. Я закричала: «Мама! Мама!», — потом почувствовала, что задыхаюсь, и проснулась. Я так часто просыпаюсь, когда задыхаюсь во сне. Ну и как тебе?
Она задает этот вопрос с каким-то странным вызовом. Я растерянно спрашиваю: «А что ты хочешь услышать?» Затем встаю и иду в ванную.
Наклонившись над раковиной, держу лицо под водой. Потом забираюсь в душ. Стекающие по телу струйки немного успокаивают: пусть вода унесет ее гадкие сны от меня навсегда.
Когда я выхожу из ванной, девочка работает над картиной: «Казнь китайца, съевшего панду». А в кресле красуется Мэри Джейн.
— Сегодня вечером мы стоим в Неаполе, — сообщает она весело.
— Здорово, — цежу я сквозь зубы. — У меня ни малейшего желания идти на берег.
— Да вы просто с ума сошли! — она с наигранным изумлением широко раскрывает глаза. — Приехать в Неаполь и не сойти с корабля!
— Я могу попросить у вас обратно мою «Анну Каренину»? Если вас не затруднит, прошу, до вечера верните ее. Мне нужно просмотреть некоторые части романа.
— Конечно. Я так и не начала читать, — она любовно разглядывает собственные туфли.
— Мэри Джейн не читает романов, — встревает девочка. — Может быть, потому, что она уравновешенная и безупречная. Она не берет на себя груз чужих проблем.
— Хватит болтать, — игриво смеется отвратительно влюбленная Мэри Джейн. — Я знаю, что ты хочешь сказать: я скучная и заурядная.
Она уходит, а потом возвращается и приносит «Анну Каренину». Потом дает нам слово забронировать на ужин столик как можно дальше от капитанского и уходит, источая аромат влажной страсти.
Я пытаюсь читать, а девочка сражается с картиной. Через пару часов мы идем в кафе и чем-то обедаем. Когда возвращаемся в каюту, я вспоминаю о ее сне и о странной паре — генеральном директоре с Тамарой.
— Тебя в это путешествие отправила госпожа Тамара с директором?
— Ага, они. Еще и настаивали. Как и с тобой.
— Когда тебе исполнится двадцать четыре года, ты сама станешь директором. А госпожа Тамара станет опять просто госпожой Тамарой. Она страшная женщина. Слишком умная, слишком проницательная. Как машина. Не ошибается никогда.
— Машина, которую изготовил мой дедушка, — пожимает она плечами. — Тамара пришла к нему на работу, когда ей было семнадцать лет. Согласилась быть его секретаршей, любовницей, служанкой, нянькой, дочкой, матерью — кем угодно, чего бы он ни пожелал. Ей нравилось, что ее ваяют из глины, как статую. В последние годы жизни дедушки они превратились в одно странное существо с двумя телами. Так слились друг с другом, что было непонятно, где начинается один и заканчивается другой. Дедушка тогда полностью подчинился ей — ведь она умела быть кем угодно: его отцом, сыном, братом, господином, жиголо. Всем.
Она задумчиво рассматривает краску под ногтями. А затем подскакивает, будто ее ужалили, и кричит:
— С чего ты взяла, что я стану генеральным директором?! Мой дурень-дядя и тебе сообщил о завещании? Вранье!!! Все, что они говорят, вранье, вранье!.. Та статья в завещании дедушки нужна было только для того, чтобы унизить дядю! А когда мне исполнится двадцать четыре, начнутся суды и адвокаты, и мне придется выступить с официальным заявлением, что я отказываюсь от должности генерального директора, а потом меня запихнут в психушку, вот и все! Генеральный директор у нас только один! Тамара, всегда только Тамара!
— Странная женщина, — задумчиво говорю я. — У нее на столе лежит «Шибуми». А на стене копия «Таможни» Руссо. Странные вкусы.
— Дедушка был таким жадным, что в этом его никто не мог переплюнуть. Но в последние годы он так обожал Тамару, что купил ей на аукционе в Париже два оригинала Руссо. Это ее любимый художник. Так что то, что ты видела — не копия. Вторая висит у нее дома: Тамара уже шесть лет живет в доме моего дедушки.
— В отношениях людей иногда наступает такой момент, похожий на цикл песочных часов. Все переворачивается. В этой точке все меняются ролями. Добыча становится охотником, охотник — добычей. Тот, кто месил тесто, оказывается перемешан и перемолот сам, тот, кто был в тени — сияет, как солнце. Тот, в ком нуждались, сам испытывает нестерпимую потребность в ком-то. Тот, кто безответно любил всю жизнь, становится объектом поклонения. А тот, кого унижали, входит во вкус удовольствия унижать. Если бы мы знали, с кем и когда наступит эта точка, мы стали бы сильнее. Но мы не знаем.
— Ага… Это про Тамару с дедушкой. А теперь больше не отвлекай меня, мне хочется рисовать. Столько времени прошло с тех пор, как я начала эту картину… Любить-то я ее люблю, но она мне так надоела. Вечно на каком-нибудь моменте да застряну. Я боюсь, что не смогу ее закончить, но принуждать себя не хочу. Зачем? Тебе ведь знакомы такие чувства? Делаешь — когда делается. А нет — и наплевать. Знакомы ведь? Знакомы.