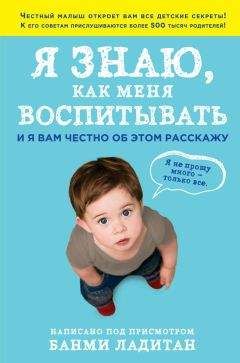Сергей Красильников - Сучья кровь
— Загадать бы желание, а вдруг да сбудется, — сказал Ксен. — Веришь, что сбудется? Чего ты такого хочешь, чтобы исполнилось?
Женя промолчал. Ушёл куда-то в небо, и вовнутрь себя, и не надо было никаких желаний, никаких условностей, никаких ритуалов. Вот тебе небо, вот звездопад, костёр, пиво, друг, и желать больше — нечего.
— Ничего я больше от жизни не хочу, — ответил Артур.
— А она как же? — спросил Женя и поставил кувшин с молоком. — Как же Наташа?
Артур молчал. Перебирал струны на гитаре.
— Послушай, она тебя ведь на самом деле, по-настоящему…
— Не надо, — перебил Артур. — Я знаю.
— Запомни, — говорил он тогда, при звездопаде. — Запомни это. Мы ведь потом вырастем, людьми станем, деньги зарабатывать начнём… Или сопьёмся к чертям и разобьёмся об жизнь. Да и всё равно, что там будет. Ты только запомни это всё… Как мы тут сидели, и как хорошо в мире было. Какое оно, счастье…
— Да разве ж оно ещё другое бывает?
— Раньше другое было. Потом другое будет. А мне вот это нравится, больше всего нравится, больше всех тех счастий, что были, и что будут…
— Мы друг друга поняли, — сказал Женя.
Выпили пива.
Когда вечером Женя возвращался домой через поле, к автобусной остановке, ему встретился ветхий старик. Такой, каких только в деревне и увидишь: весь в лохмотьях, увечный, хромой. «Вот так в русских сказках лихо выглядело», — подумал Женя.
— Дай копеечку, — попросил старик, дрожа от холода и улыбаясь.
Это было так просто. Теперь, когда зарабатываешь деньги сам, знаешь их реальную цену, так просто дать копеечку. Бедному, замёрзшему старику копеечку дать.
— Ведь пить будешь, — заметил Женя, остановившись рядом со стариком.
— Дай копеечку, — жалобно попросил старик. — Дай, мил человек, хлеба не на что купить.
— Так собери яблок. Везде валяются.
Старик опустил голову и руку вперёд протянул. Ветер задрал какую-то тряпку сзади на его жалком одеянии, да так поднял вверх, что старичок стал вдруг похож на супергероя с развевающимся плащом.
— Человек ты или кто? — растерянно спросил Женя.
Старик молчал, всё так же протягивая к Жене руку. Плащ его опустился, и он снова стал ничтожен и слаб.
— В нужде ты или нет, я не знаю. Но возьми вот.
И высыпал всю мелочь, какая была, целую горстку денег. Протянул старику, но тот даже не пошевелился, так и остался стоять. Женя наклонился, заглянул под шляпу бродяги (или это был капюшон?) — а он смотрит сквозь, вдаль куда-то, и глаза пустые-пустые, как небо в ноябре, в те дни, когда всё облаками накрыто, но точно знаешь, что дождя не будет. Глаза, затянутые голубоватой полупрозрачной мутью, подёрнутые отчаянием.
— На, дед, возьми.
Женя осторожно переложил деньги в протянутую руку, и почувствовал: холодная, холодная, ужасно холодная, шершавая, усталая, мозолистая рука.
— Спасибо, — ответил старик. — Спасибо тебе, мил человек.
На том и разошлись. Женя добрался до конечной, сел на автобус, открыл кошелёк — а там вся мелочь лежит, сколько было. Ни на копейку не убавилось. Женя рассеянно купил у водителя билетик и прокомпостировал его. В сумме цифр на билетике вышло двенадцать.
Старик почему-то не шёл из головы, хотя нищих Женя до этого повидал изрядно, и даже более жалких видел. Растерянно он уставился в темноту за окном, как будто там ещё можно было рассмотреть бродягу. Но старика там не было, а только ночь, ветер… огни мелких домиков, фонари и… остановка.
А на остановке села она.
Девочка-вишенка.
— Витя?
— Да, я.
— Витя, я не приду сегодня. У меня вдруг планы изменились.
— Вот как…
— Не обижайся только. Я в другой день приду. Искусство, оно, конечно… Искусство. Но у меня так всё сложилось…
— Ничего. Бывает.
Витя повесил трубку, прошёлся между кулисами и остановился перед декорациями. Сзади все декорации выглядят почти одинаково — фанера и дерево. «На дне» ли там или «Вишнёвый сад» видит зал, а сзади — всегда только фанера и дерево…
До начала пьесы — пятнадцать минут.
То ли рассеянность, то ли растерянность какая-то…
— Николай Алексеевич Иванов, — холодно, но с чувством произнёс он. — Объявляю во всеуслышание, что вы подлец!
А Наташа в это время, усталая и вымотанная, стояла в очереди к театральному гардеробу. В правой руке она держала свою старую потрепанную куртку рыжего цвета, найденную однажды среди вещей матери, а в левой — неизвестно, счастливый или нет — билетик.