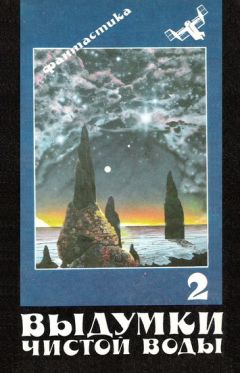Род Лиддл - Тебе не пара
Сестра снова хихикнула.
Несколько мгновений доктор смотрел на него в упор, потом махнул медсестре рукой.
— Ой, да отдайте ему его чертову руку. Баббидж, вы умрете.
Кристиан обшарил двор взглядом в поисках своего таксиста. Но таксист как будто бы пропал вместе с его ста тридцатью фунтами. Кристиан нес (в правой руке, естественно) свою левую руку. Она лежала в полиэтиленовом пакете, обложенная кубиками льда. Там же был и телефон, правда, нефункционирующий, поскольку в больнице его положили вместе с рукой, так что он пропитался водой и кровью и теперь, когда Кристиан попытался им воспользоваться, издал лишь раздраженный писк. При каждом шаге его пронизывала боль. Что мне теперь делать, размышлял он. Только ни в коем случае не думайте, что он упустил из виду возможность сознаться во всем Анжеле. Но данная перспектива выглядела на порядок хуже всего остального, что он способен был себе представить.
Помимо всего прочего, у Анжелы был заскок, причем серьезный, связанный с людьми, у которых ампутирована конечность. Они ей были чрезвычайно неприятны. Она многие вещи не особенно любила, быть может, без каких-либо рациональных на то причин. Потроха, например. Джазовую музыку. Рождественские повторы «Моркэма и Уайза» и «Двух Ронни»[13], в особенности Корбетта. Они наводили ее на мысли о том, какая она старая. Суши, гуси и анальный секс ей тоже не слишком-то нравились. Но ампутанты, те по-настоящему действовали ей на нервы. Он вспомнил, как однажды бросился переключать телевизор только из-за того, что там брали интервью про пехотные мины у какого-то безногого бедолаги. Ампутации внушали ей ужас.
Но она, конечно, не бросит Кристиана только потому, что его угораздило потерять руку. Для этого ей понадобится повод. А его неверность как раз и обеспечивает идеальный повод.
Так, значит, в Юттоксетер. Он пошел назад по Теобальдс-роуд, мимо телефонной будки, под сырым безлунным небом, держа курс на северо-запад. Полиэтиленовый пакет начал протекать. Розоватая водянистая жидкость оставляла за ним след на тротуаре, смешиваясь у него за спиной с красными каплями потемнее. Повязка и подоткнутый рукав пиджака насквозь промокли. Земля под ногами утратила свою обычную успокаивающую твердость, уличные фонари мигали и колыхались в воздухе перед глазами.
Боль занимала теперь бо́льшую часть его мозга. Он не мог думать ни о чем, кроме боли — она заполнила собой все, целиком захватив над ним власть. Почти. Он был способен лишь иронически размышлять о своем затруднительном положении да о страшных психологических травмах, постигших в свое время Алана Тюринга. Мне, может, и трудно, рассуждал про себя Кристиан, зато я хоть не педик латентный.
По крайней мере, видно, до какой степени я люблю Анжелу, на что я готов пойти, лишь бы уберечь ее, правда же? Думаете, я для себя стараюсь, осведомился он у воображаемой аудитории. Это все ради Анжелы. Этот ее смех, когда глаза сужаются и вокруг них появляются морщинки. И ее манера плакать: лицо медленно застывает в молчании, губы растягиваются в широкой горестной гримасе, появляются слезы, поначалу беззвучные. Да, он отдал бы свою левую руку, только бы этого не видеть. Левую руку и многое сверх того. Нельзя обременять ее невзгодами, проистекающими из собственных грехов. Что угодно, только не это.
Потом, после нескольких сотен ярдов, его засосала мерцающая чернота, и боль словно спала или, во всяком случае, потеряла значение. В детстве ему снился сон, кошмар, где ему стреляли в живот, а вместо боли внутри возникало только чувство опустошения да невыносимая тяжесть. Нечто подобное навалилось на него и сейчас, и он опустился на колени на покачивающемся тротуаре, думая: дайте мне поспать, просто поспать, и все. Остальное я могу и утром сообразить. Мне нужны силы, чтобы думать. Если я тут посплю… он слегка приподнял голову.
Дорога была черна; все вокруг спали. Уснуть! Может быть, если найти комнату, где удастся полежать хотя бы несколько часов…
…и вот, глядите, в доме неподалеку загорелся одинокий огонек в окне наверху. Кто-то не спит. Кристиан пополз на свет. Кровь, черная и густая, хвостом тянулась за ним. Помогите, услышал он свой плачущий внутренний голос, помогите мне.
Не думал я, что вот так это произойдет, прошептал он сам себе, когда дверь перед ним наконец открылась.
Больничные власти обещали вернуться за рукой, но так и не вернулись. Сотрудники «скорой» велели Грэму положить ее в морозилку. Там она и лежит до сих пор.
СВЕТИТ МЕСЯЦ
На местном канале Би-би-си — вечерние новости. Обращаясь к камерам, Кенни Дуглас умоляет о возвращении своей жены Николы. Рядом с ним на диване что-то лепечет их единственный ребенок, трехлетний Дэнни: глаза как в диснеевском мультфильме, копна черных волос. Благодаря присутствию здоровенного полицейского, техника-осветителя, симпатичной юной репортерши и толстого красноглазого журналюги из агентства новостей Дэнни осознал наконец всю опасность своего положения. Самого по себе отсутствия матери, исчезнувшей почти неделю назад, оказалось не вполне достаточно, чтобы вселить в него это ощущение.
— Где мамочка? — горько спрашивает он в самый подходящий момент.
Действительно, где? Следователь, стоящий за кадром, сбоку от Кенни, непрестанно излучает сочувствие и легкую тревогу, но горстка его сотрудников уже отправилась прочесывать железнодорожные насыпи, лесопарки, проходы и помойки Камберуэлла, Денмарк-Хилла и Далича.
— Ники, Ники, вернись домой; где бы ты ни была, вернись домой, к нам с Дэнни, — в третий раз хрипит Кенни в камеру. Никак ему не дается правильный ритм, тембр голоса. Правда, они, телевизионщики, проявляют терпение — понимают, что он в ужасном состоянии. Представляешь, каково ему, говорят они друг другу, глядя, как Кенни проводит рукой по волосам, свалявшимся от пота в свете мощных телевизионных софитов.
Никола «ушла из дому», даже записки не оставив, все это как-то непонятно — и вот, пожалуйста, в дело вмешалась полиция. Морис, отец Кенни, сидит на кухне, подальше от журналистов, а позже сообщает полицейскому, что все это, на его взгляд, пустая трата времени. Чего зря болтать — сбежала с мужиком и обратно не вернется.
Он что, правда так считает? Да быть этого не может!
Ибо у нас, у всех остальных, кто смотрит передачу дома, возникает один-единственный вопрос: когда же Кенни предъявят обвинение? Ну, может, еще дополнительный: какой толк от этой девяностосекундной теледрамы? Разве что дать местному населению возможность посмотреть на преступника, пока ему на голову не набросили одеяло.
Поможет ли это полиции? Они со своей версией практически определились. Конечно, официально дело пока открыто, но, по мнению следователя и его подчиненных, роющихся в кустах и мусорных баках, двери неотвратимо закрываются. Так зачем эта экранизация? Каких они ждут улик? Недостаточно искренних рыданий? Необдуманной реплики, оброненной Кенни за кадром, возможно, в разговоре с отцом? Внезапно выболтанного признания — реакции, вызванной исповедальным стилем телепередач и тем предвкушением, которое испытывают зрители, сидящие дома за едой?
Не вполне ясно также, какой нам, зрителям, или вуайеристам, от всей этой истории прок. Не столько «новости», сколько чернуха, то ли хитро замаскированная шутка, то ли констатация очевидного. А истинный пафос ситуации — явное непонимание и слезы Дэнни, ваза с увядшими тюльпанами на столе за спиной у этих двоих, мячик яркой расцветки на полу, их фотографии втроем — Кенни, Никола и Дэнни — на полочке сборной стенки слева в кадре — это всего лишь эмоции, обломки крушения семейной жизни.
Бедная Никола. Пять дней, как пропала, у друзей, насколько известно, не появлялась — вообще никаких контактов ни с кем из знакомых. Или хотя бы прежде незнакомых. Короткая запись заканчивается кадром с фотографией Николы крупным планом: смеется, голова запрокинута, темные волосы свесились за спину, снимок сделан во время их последнего отпуска на Санторини. На заднем плане едва различим черный, вулканического происхождения песок.
Насколько оба они были тогда счастливы? Предчувствовали ли, что их ожидает? По тонким полоскам у Николы на плечах можно догадаться, что она носила бикини. Купалась ли она? Купались ли они вместе, брызгаясь, валяя дурака? Смех, ухваченный на снимке, — был ли он искренним или вымученным ради семейного фотоальбома? А Кенни — по-видимому, это он снимал в тот раз, — он-то о чем думал, сгорбившись с фотоаппаратом в руках, все наблюдая, наблюдая за ней? Пытался ли выдавить из себя ответный смешок во время ежедневных прогулок на пляж и обратно, в ресторан, в бар — провести вечер за «Ретсиной»[14] и легкомысленной отпускной трепотней? Или счастье в тот отпуск было настоящим, несмотря на темноту за кадром? В общем, хотелось бы надеяться, что нет. Так что же Кенни: постоянно нервничает, не знает, как быть, как сделать, чтобы все прошло гладко? — интересно все-таки размышлять над серьезностью его положения.