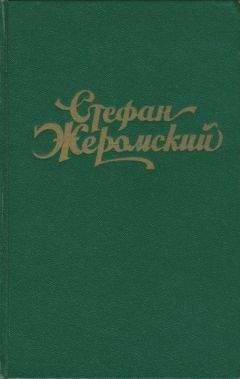Пьер Пежю - Смех людоеда
Лафонтен, такой одинокий за спиной молчаливого шофера, боится этих сверхпамятливых зверей, неприметно вспухающих ниже запястий. Он трет ладони одну о другую, словно хочет стереть грязь или согреть, потом, несмотря на жару, натягивает форменные перчатки. «Вот этот разрыв, — сказал бы сейчас пастор Юнг, — и есть великое и таинственное испытание для вашей души!» А Лафонтен ответил бы ему: «Вся моя душа уместилась в моих руках!»
Если бои уже идут, вскоре этим рукам найдется занятие, они будут копаться в окровавленных органах, пилить кости. А потом, когда наступит зима, они займутся обморожениями, мелкими незаживающими ранками, онемениями. Но сколько ни занимай их, не давая им ни минуты покоя, — они вспомнят. Они сохранят отпечаток незаметного и страшного жеста, их липкая память останется на каждом предмете, какого они коснутся.
Лафонтен не знает, что в эту минуту и лейтенанту Морицу тоже мешают его чудовищные руки. Трясясь в грузовике, нагруженном пулеметами, гаубицами, противотанковыми минометами, он с нетерпением ждет первых боев. Его руки крепко-крепко сжимают пряжку пояса — до боли, до крови. Стискивают кобуру пистолета и чувствуют холод металла. Им не терпится подняться к темному небу, чтобы дать приказ открыть огонь. Не терпится убивать, чтобы забыть о нескольких маленьких мертвецах.
Что произошло? Когда грузовики с детьми отъезжали от казарм, знал обо всем только Мориц. Внезапно он приказал водителям свернуть к лесу. Его люди не посмели открыто удивиться. Настроение было беспокойное, лихорадочное.
Это был светлый трепещущий лес. Большой лес, нарушающий однообразие равнин, с обеих сторон обхвативший Краманецк. Город словно цеплялся за эту жалкую растительную вертикальность, гордился окружавшими и украшавшими его березами и соснами.
Операция, задуманная эсэсовцами, командирами особых отрядов, и проходившая под надзором высшего руководства, была подготовлена наспех. Мориц, выполняя полученный приказ, велел грузовикам на первом же повороте уйти с шоссе влево, на лесную дорогу. Грубо взревели моторы, шоферы переключили скорость, а вскоре начались рытвины. Машины продвигались с трудом, дети валились друг на друга. Дорога все больше сужалась. Моторы работали с перегрузкой. Нижние ветки хлестали по серо-зеленым крышам кабин. Казалось, стихии вступили в заговор, как бывает в сказках, чтобы сделать лес непроходимым, помешать совершиться преступлению. Как ни ревели, как ни старались грузовики — они не могли сдвинуться с места.
У Морица сдали нервы. Не переставая отчаянно скрести голову, он вылез из кабины и подошел к первой машине, чтобы объяснить шоферу, что надо делать. Велел уложить поверх песка сломанные ветки. Мориц пыхтел и потел: его, простодушно исполнительного, тяготило это трудное и подлое задание, он поймал себя на том, что испытывает странное удовольствие оттого, что столкнулся с непредвиденными трудностями. Его смущало это злобное удовольствие, и оттого он еще сильнее обливался потом.
Нет, до этой поляны добраться решительно невозможно! Ему захотелось развернуться и вместе со всеми детьми вернуться в Краманецк. Взять да и привезти туда детей — в жалком состоянии, но живых!
Ладно, посмотрим. Вообще-то сейчас все старшие офицеры охвачены предотъездной лихорадкой, а командиры готовятся к наступлению. Кому сейчас есть дело до этих измученных детишек? «Да, но они — евреи!» — внушал себе Мориц, опасаясь, как бы его не обвинили в том, что он не исполнил приказа по причинам более личным, чем эта чертова физическая невозможность: нельзя проехать по дороге, нельзя добраться до поляны. Он в самом деле не испытывает ничего, кроме презрения и отвращения к этим неопрятным полицаям, нетерпеливо — скорее бы покончить с делом! — топчущимся на краю вырытой ими ямы. Ждут, наверное, сейчас в тишине — только пение птиц, жужжание насекомых и шепот листьев на березах.
Мориц все еще в нерешительности. Бывают такие мгновения неустойчивого равновесия, когда чаши весов могут склониться и в ту и в другую сторону, достаточно пустяка — вздоха или пылинки, достаточно произнести один-единственный слог и сглотнуть слюну. И в это прозрачное мгновение верные доводы, главные принципы, глубокие убеждения и самые лучшие намерения словно засыпают, заглушенные толстой оболочкой плоти, прячутся в ледяных складках и закоулках мозга.
Мориц замер на месте, стиснутый кольцом деревьев. Только что он споткнулся о корень, подвернул ногу, ушиб колено. Его тело будто расслоилось на волокна. Все то, чем он был, все то, чем он себе казался, расползлось на пугающее множество мелких волокнистых стремлений, они со страшной скоростью ветвились, сплетались, соединялись и разъединялись и в конце концов выдали решение.
— Стой! — неожиданно для себя взревел Мориц. — Выведите всех детей — до поляны дойдем пешком!
Жребий брошен. Где-то там, в толще Морицевой плоти, победу одержали некие дисциплинированные струны. А струны сострадания умолкли навсегда.
Морщась и прихрамывая, он прошел вдоль трех грузовиков, остановленных лесным колдовством — лес не пустил их дальше. Солдаты вывели детей. Люди в военной форме передавали друг другу самых маленьких, сбрасывали младенцев на руки самым крепким из мальчиков. А потом погнали это слабое, покорное стадо по неровной дороге. Шаг, еще шаг. Крики, удары, кто-то падает. Когда в кузовах не остается никого, солдаты берут на руки самых слабых.
По лицу Морица катятся крупные капли пота. Этот лес — кошмарное наваждение, как же далеко его занесло от кельштайнских гор! Он не столько ведет эту больную свору, сколько тащится вместе с ней, оскальзываясь сапогами на песке.
И тут Мориц, шаря глазами среди лучей и теней леса в надежде отыскать наконец выход на поляну, замечает, что к нему приближаются двое детей, мальчик и девочка. Подойдя, они сами вкладывают свои ладошки в его, как делают потерявшиеся, уставшие дети, когда доверчиво и беспомощно отдаются первому попавшемуся навстречу взрослому. Мальчик берет Морица за левую руку. Девочка — за правую. Они цепляются за его кисти, как, должно быть, цеплялись за отцовские, когда шли вместе по дороге где-нибудь неподалеку от Краманецка или отправлялись в лес за хворостом. Они поступают так, как поступают все дети, когда у них совсем не остается сил или когда им снится плохой сон. Если только эта кроткая просьба чуть-чуть побыть отцом не была тайным способом отвести взрослого растерянного человека в какое-то мысленное место, где с незапамятных времен ждет его детство. Ждет целую вечность…
Мориц, потрясенный прикосновением к этим зверушкам, забившимся в пещеры его ладоней, вместо того чтобы оттолкнуть детей, только крепче сжимает их руки. Он идет во главе странной процессии, стараясь не думать ни о том, что сейчас произойдет, ни о том, что уже случилось, стараясь не слышать, как поскрипывает песок под копытами Дьявола и коня Смерти. Могло показаться даже, что малыши немного успокоились, что их короткие шажки, под которые Морицу приходится подлаживаться, стали тверже, словно тепло, исходившее от могучего лейтенанта, пробудило в них непонятное доверие.
И вдруг он видит полицаев с ружьями. Их больше, чем он предполагал. Смуглые, темноволосые, суетливые. Видит и разверстую яму, в которую сбросят трупы. Видит небо над поляной и птиц, спешащих прочь. Проходит еще немного, не отпуская детей, потом, в нескольких метрах от палачей, разжимает руки и очень осторожно подталкивает вперед мальчика и девочку, и в последний раз видит их тоненькие шейки и пушок на затылках.
А потом все происходит очень быстро. Мориц перекидывается несколькими словами с главарем этой шайки, здоровенным парнем с перекрещенными на груди патронташами, увешанным золотыми и костяными побрякушками, и в это время слышит за спиной лязганье затворов: украинцы, ворча, заряжают винтовки. Эти звуки внезапным ливнем обрушиваются на броню, в которую одето его сердце, звонкий влажный стук, предвещающий грозу, которая все унесет с мутным зеленоватым потоком.
«Да как же наш вермахт, — думает Мориц, — может, хотя бы и для самой грязной работы, нанимать этих мерзких предателей?» Ему хочется завыть, стать чудовищно тупым. Он знает, что сейчас от него осталась одна видимость солдата, только на то и годная, чтобы исполнять приказы. Теперь это лишь пустая оболочка, внутри которой затаился съежившийся зверь. Людоед, который в сумерках раздавит детские руки в своих, а потом перемелет челюстями их прекрасные лица.
Мориц, не медля больше, уводит своих людей с поляны.
— Ускоренным шагом марш!
Еще не дойдя до грузовиков, они слышат грохот выстрелов, чуть приглушенный слабым заслоном из берез и сосен. Красное видение на красном фоне — падающие дети. Лес гудит. Солдаты опускают головы.
Каждый увяз в собственном страхе. Каждый солдат погружен в собственное молчание, Мориц пыхтит и потеет, у каждого своя внутренняя война, в свою очередь, затерявшаяся в наводящей ужас беспредельности общей войны.