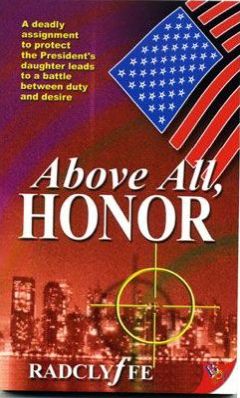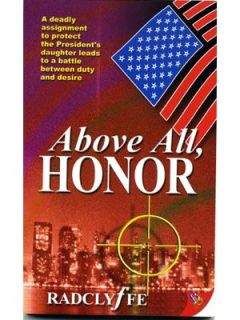Роман Савов - Опыт интеллектуальной любви
— Ах, да. Так это решено?
— Решено.
— Ну, ладно, удачи. Свяжись со мной, когда все уладится, хорошо?
— Конечно.
Я поднимаюсь на насыпь, поворачиваюсь, смотрю ему вслед. Он идет, немного раскачиваясь, то ли из-за выпитого пива, которое не умеет пить, то ли из-за беспокоящих мыслей.
Женек занимал на заводе какое-то особое, свое, место. Он был не с нами, но и не с шакалами. И его выбор уважали и мы, и они — такое бывает редко. У него была идея-фикс, которая у большинства людей не вызывает ничего, кроме зависти, — он копил на машину, ограничивая себя во всем. Он не развлекался, экономил, в результате выпадая из общего круговорота заводской жизни, он отрекся от мира. Но остальные ему симпатизировали. Почему?
Он устроился на завод на 2 недели позже меня. И сейчас он уходит. Складывается впечатление, что мой отпуск вызвал к жизни цепь взаимосвязанных событий, которые каким-то непостижимым образом замыкаются на меня.
Мне хочется думать, что это всего лишь иллюзия, но она наводит на мысли о солипсической философии: будто бы мой разум, устраненный, перестает спаивать людей, события, да и себя. С прекращением мысли прекращаются и события, на которые эта мысль была направлена.
В маршрутке я начинаю обдумывать теорию интуиций. Мне все кажется, что в этой области многое не додумано, что я должен внести во все это какую-то ясность, что это жизненно необходимо. Только кому? Мне? В общем, я думаю об этом от безделья.
Под интуициями я буду понимать синтез мыслей, чувств и эмоций, не оформленных еще ни во что конкретное, но являющихся эмпирической данностью.
Они рождаются в преддверии творческого акта, при переживании любовного чувства и при ожидании смерти. Причем, хотя смерть и является отрицанием, но для мыслящего о ней человека, она является одним из видов творческой деятельности, потому что способна порождать интуиции самого высокого порядка.
Любой автор стремится к постижению собственных интуиций, к их реализации. Утрата способности писать — это утрата способности к интуициям. Я просто выразил их все, когда создал "Прелюдии". Потом… А что было потом?
Когда я впервые осознал, что не буду больше писать? Кажется, когда встречался с Вороновой. Она была уверена, что у меня талант, что его нужно развивать, что я призван продолжить лучшие традиции экзистенциального романа. Я же улыбался. Зачем она затеяла это дело вдохновения меня на подвиги творчества?
К краху интуитивного познания я пришел в два этапа.
Сначала я начал писать лучшее произведение о проблеме творческого сознания, о том, как рождаются стихи, о том, что происходит в это время в сознании творца, как сознание соотносится с тем, что оно породило уже после произведения. Подспудно я понимал еще во время последней работы, что, закончив ее, закончив "Прелюдии", настолько опустошусь, что не смогу написать ни строчки. Поставив перед собой планку уровня мастерства и преодолев ее, я не смогу подняться еще выше, а то, что ниже — не имеет ценности. Как-то совершенно случайно в моем уме возникает идея — создание собственной мифологической системы. Я вижу себя, обложенного фолиантами, изучающего мифы мира, философские учения. Затем, обобщив опыт веков, создаю величайший опус, отражающий великие истины, раскрывающий смысл смерти, пространства, особенно же — времени. За какое бы дело я ни брался, казалось, что это подготовка к реализации замысла, будь то любовные игры с Леной, Светой или Настей, будь то уход в армию или работа на пивзаводе, будь то испытание нравственных бездн и парадоксов любви.
Крах этого этапа был велик — падение Вавилона. Он начался в день моего рождения, в день смерти Кати.
Все было кончено. Я отказался от жизни во имя Творчества, и утратил Творчество. Однако с той ночи во мне поселилась дьявольская двойственность, которая и обусловила всю мою жалкую жизнь. С одной стороны — интуиции о невозможности интуиций, а с другой — подчинение всей жизни творческой задаче, которая хотя и не достижима, но уже поставлена. Раздираемый противоречиями, разум продолжал превращать жизнь в творчество, но (что уже попахивает преступлением) не только свою собственную, но и жизнь других людей, которые любят или любили меня, и которые ни в чем, кроме этого не были виноваты. Наверное, я — чудовище. Моя жизнь превратилась в одну сплошную интуицию, великую, но бесполезную и бесплодную. "Впрочем, будет!".
"Впрочем, будет, по-прежнему солнца горьки,
Исступленны рассветы и луны свирепы,
Пусть же бури мой кузов дробят на куски,
Распадаются с треском усталые скрепы!"
Я знал, что, произнеся, пусть даже и мысленно, эту формулу, обрекаю свое тело болезни. После этих слов всегда начинала свирепствовать ангина, но я с удовольствием повторяю катрен снова и снова, будто бы он приносит облегчение. Этот катрен бесполезен так же, как и другие интуиции, независимо от того, были ли они великими.
На площади Победы никого не было. Не было ни автобуса, ни Насти, ни людей. Я в недоумении осмотрелся, подумав, что отправление, возможно, будет с площади Ленина.
Я начал нервничать. Пошел на остановку, сел в троллейбус и поехал обратно…
Под деревцами рядом с памятником я увидел Аллу, которая сидела на сумках.
— Опаздываем?
— Нет, Родя, что ты… Время еще есть.
— А где Настя?
— Должна придти. У нее какие-то дела.
— Раз время есть, я пойду куплю пленку для фотоаппарата, а то там, наверное, она будет стоить дороже.
— Конечно, иди, я подожду здесь. Оставляй сумки.
В магазине мы встретились. Я обрадовался, как никогда раньше, обрадовался потому, что ожидал увидеть ее где угодно, занятой чем угодно, только не подготовкой к отъезду. Мы обнялись. Возможно, излишне страстно для магазина, подтверждением чему были завистливые взгляды молоденьких продавщиц…
Алла махала рукой, а из ее глаз капали слезы.
Она незаметно постаралась их смахнуть…
То ли ветер был тому причиной, то ли я недооценивал ее знания о собственной дочери, но мне показалось, что она была счастлива за нас, счастлива за такой исход, счастлива за эту поездку.
Автобус тронулся, оставляя ненавистную Рязань позади, приближая к мечте.
Настины глаза были глубоки и серьезны, и я подумал о возможности начать все заново в другом городе, где бы нас никто не знал, где бы не было ни ее, ни моего прошлого, ни общих знакомых.
Настя обратила внимание на молодую пару, точнее, на двух подростков. Они сидели сзади и резвились.
Говорят, трагедия старости не в том, что все стареют, а в том, что не замечают этого. Если это действительно так, старость — комедия.
Лично мое внимание привлекла интересная парочка: девушка лет 22 и ее мать. Обе белокурые, красивые. Девица напоминала Жеребко. Своим изяществом, утонченностью, тонкими чертами. Мысленно я овладел ею. Мысленно я сравнил ее с Настей. Но хотел ли я, чтобы вместо Насти была она?
Темнеет.
Нам решают рассказать про историю Санкт-Петербурга, про трехсотлетие, прямо на которое мы попадаем (чем и объясняется дороговизна путевок).
Три ночи в гостинице, волшебные три ночи, как в сказках. И Настя уже предвкушает их великолепие.
Я начал задремывать, когда она неожиданно и порывисто прильнула ко мне и попросила сказать, что я ее люблю.
— Настен, ты что? Ты же знаешь, как я люблю тебя.
— Но ты так редко говоришь об этом, так редко.
— Неужели ты думаешь, что частота этих слов увеличит любовь?
— Ты просто не представляешь, как приятно это слышать.
— Поспи, Настен, завтра рано вставать.
— Я знаю, но так можно проспать всю жизнь.
— Ты права, но мне так хочется спать.
Она тяжело вздыхает. Так вздыхают, когда уверены, будто другой не просто не понимает, но и не может понять. Никогда.
— Спи!
Я проваливаюсь в какую-то тьму, в которой появляются красные всполохи, но сквозь дрему я слышу разговоры и смех, слышу, как гид говорит водителю, где свернуть на автозаправку, слышу, как мы проезжаем Москву.
Путешествие из Москвы в Петербург начинается. Но я не хочу видеть то, что видел Радищев, поэтому позволяю сну завладеть мной, избавить от ощущений: раздражения, любви и ненависти.
Я чувствую, как Настя пристраивает голову мне на грудь, слышу (или вижу?) всполохи, которые все удаляются, пока не исчезают вовсе, как Жеребко-соседка подходит ко мне с обнаженной грудью и прислоняет свои соски к моим губам. Я припадаю к ним и проваливаюсь в небытие…
Просыпаюсь несколько раз, просыпаюсь от боли. У меня затекли руки, ноги, затекли плечи. Настя тоже просыпается. Осознавая это, я засыпаю снова и снова, пока Настя не говорит, что мы приехали.
Мы едем мимо дворцов, которые обрамляют улицу, дворцов, которые здесь никого не удивляют, мимо каналов, одетых в гранит, пока не подъезжаем к Стрелке Васильевского острова.