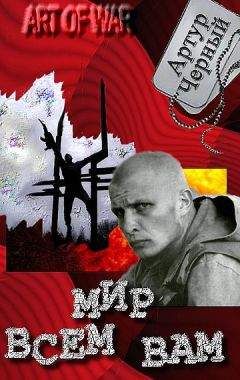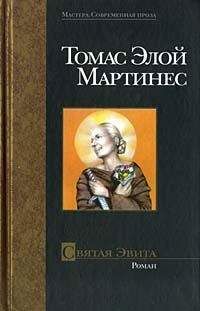Томас Мартинес - Он поет танго
В ноябре стало жарко. Даже мальчишки, бродившие по городу с тележками, груженными картонной макулатурой, которую они потом продавали по десять сентаво за килограмм, выбрасывали печаль из своих душ и насвистывали такие ласковые песенки, что на них можно было преклонить голову: бедняжки опускали руку в карман, и единственное, что они там находили, — это хорошую погоду, и этого им вполне хватало, чтобы на минуту позабыть о жесткой постели, в которой им не придется спать сегодня ночью.
Как только я вошел в «Ла Бригаду», я заметил пару телевизионных красавчиков за столиком у окна. С ними сидела Валерия, и, судя по рисункам, которые она набрасывала на листе бумаги, мне показалось, что танцовщица обучает этих двоих фигурам танго. Я не встречал ее ни разу после той первой ночи в городе, но ее лицо было невозможно забыть, потому что она была похожа на мою бабушку. Валерия радостно замахала в мою сторону. Я заметил, что она скучает и ждет, чтобы что-нибудь — или кто-нибудь — вызволило ее из плена.
Эти два придурка завтра должны танцевать, у них съемки, а они даже не способны отличить ранчеру от милонги, сказала мне Валерия. Оба кивнули, словно и не слышали, что она сказала.
Отведи их в «Ла Эстрелью» или в «Ла Вируту», или как там нынче ночью называется это место, посоветовал я. Потом повернулся к красавчикам и добавил: Валерия самая лучшая. Я видел, как она обучала японца с кривыми ногами. К трем часам ночи он танцевал не хуже, чем Фред Астер.
Она намного старше нас, брякнул один из них. А зрелые женщины меня не заводят, так я не смогу научиться.
Зрелые или молоденькие, в постели мы все одного размера, возразил я, процитировав Сомерсета Моэма или, возможно, Хемингуэя.
Разговор явно заходил в тупик; в течение нескольких минут Валерия пыталась поддерживать беседу рассказом про «Трясину»[52] — этот аргентинский фильм напоминал ей об истериках и непонимании в ее собственной семье, именно этим он ее и взбудоражил. А вот оба красавца, наоборот, заспорили, не дожидаясь конца рассказа: Да, Грасиэла Борхес играет божественно, но мы не можем выносить такого количества собак в каждой сцене, объявили они. Шавки все время лаяли, и кинотеатр даже пропах собачьим дерьмом.
Эти парни предпочитали «Сына невесты»[53] — вот где они ревели в три ручья. Я был незнаком с местными киноновинками и в разговор не вмешивался. Мне нравились вещи, отмеченные печатью времени. И на Манхэттене, и в Буэнос-Айресе я часто посещал арт-галереи и киноклубы и видел там настоящие чудеса, о которых теперь никто не помнил. В маленьком кинозале при театре «Сан-Мартин» я в один день посмотрел «Бегство», аргентинский шедевр 1937 года, который шесть десятков лет считался потерянным, и «Хронику одинокого ребенка», которая была не слабее, чем «Четыреста ударов»[54]. А еще через неделю в Музее латиноамериканского искусства я натолкнулся на короткометражный фильм 1961 года под названием «Ремесло», в котором показывалось, как коров оглушают ударами молота, а потом живьем сдирают с них шкуру. Тогда я понял настоящий смыл слова «варварство» и всю следующую неделю ни о чем другом не мог думать. Случись со мной подобное в Нью-Йорке, я бы сделался вегетарианцем. В Буэнос-Айресе это невозможно, потому что, кроме мяса, здесь почти нечего есть.
Где-то после одиннадцати Валерия и ее ученики попросили счет и встали из-за стола. Съемки завтра начинались спозаранку, а им еще надо было попрактиковаться часа два-три. Когда они начали прощаться, я больше ничего не ждал от нынешней ночи, однако один из этих клоунов меня удивил:
Нам придется добираться к черту на рога и не спавши, че. Представь себе, скотобойня Линьер! Сначала нам назначили на полдень, а потом сообщили, что место занято. Нам перешел дорогу какой-то увечный певец. Лысая голова, да как его звать-то? прибавил он, хрустнув пальцами.
Мартель, ответил другой актер.
Хулио Мартель? выдохнул я.
Да вроде. Откуда он только взялся?
Это великий певец, поправила его Валерия. Лучший после Гарделя.
Только ты так говоришь, вмешался тот актеришка, которого Валерия не заводила. Никто не понимает, что он поет.
От нетерпения я не мог ни работать, ни спать. Впервые случай позволил мне предугадать место, где Мартель собирается устроить одно из своих сольных выступлений. Посмотрев «Ремесло», я мог догадаться, почему певец выбрал именно скотобойню — три двухэтажных здания с монастырской аркадой по центру, которые начали строить в тот же день, когда открылся Дворец воды. Северные ворота когда-то служили входом на сами бойни, где по утрам забивали предназначенных для продажи коров, и на старый мясной рынок. В 1978 году диктатура закрыла и разрушила скотобойню. На сорока гектарах освободившейся площади построили фармацевтическую лабораторию и разбили парк отдыха, однако коров продолжали привозить на близлежащий рынок в грузовиках с прицепами, загоняли на скотные дворы и продавали с аукциона, по столько-то за килограмм.
Улица со скотобойнями много раз меняла название, и теперь ее называли как кому заблагорассудится. В начале XX века, когда эта местность была известна под названием Чикаго и скотобои пользовались только ножами, привезенными из этого города мясников, те, кто рисковал здесь появляться, говорили «Десятая улица». В приходских книгах она значилась как улица Сан-Фернандо, в память об одном средневековом государе, который питался только коровьим мясом. Аукционисты, собиравшиеся за сине-розовыми витражами бара «Овьедо», прямо напротив скотобоен, до самых последних лет продолжали называть ее Телье в честь некоего француза, Шарля Телье, который впервые осуществил перевозку мороженого мяса через Атлантический океан. При всем при этом с 1984 года она называется улица Лисандро де ла Торре, по имени сенатора, разоблачившего монополию рефрижераторных компаний.
Не существует планов Буэнос-Айреса, которым можно доверять, поскольку улицы меняют название с недели на неделю. Что одна карта утверждает, другая опровергает. Адреса дают ориентир и в то же время вводят в заблуждение. В этом городе есть люди, которые, боясь заблудиться, не отходят от своего дома дальше чем на десять — двенадцать перекрестков в течение всей жизни. Вот, например, Энрикета, консьержка из моего пансиона, ни разу не бывала на западной стороне проспекта Девятого июля. «Зачем? — говорила мне она. — Кто знает, что там со мной может случиться».
Покончив с ужином в «Ла Бригаде», я направился прямиком в «Британико», не задерживаясь в своем квартале, как обычно и поступал. Я торопился привести в порядок свои записи о фильме «Ремесло» и проверить, не обнаружится ли в ритуалах скотобойни какое-нибудь объяснение появлению Мартеля в этом месте в следующий полдень. По данным короткометражки, каждое утро через эти дворы проходили навстречу своей смерти семь тысяч коров и телят. Раньше их прогоняли через прудик, где начиналось мытье, а потом выставляли под струи воды из шлангов, и на этом мытье заканчивалось. Коровы поднимались вверх по пандусу и попадали в шлюзовую камеру, где их разделяли на группы по три-четыре головы. И тогда на загривок каждой их них обрушивался страшный удар молота, который наносил мужчина с обнаженным торсом. Этот человек редко ошибался. Животные валились с ног, и почти тотчас же их сбрасывали на цементный пол с высоты в два метра. Никто из них не должен был почувствовать неизбежность своей смерти — это было необходимо, чтобы мясо сохранило свою свежесть. Если корова чует опасность, она напрягается от ужаса, и все ее мышцы приобретают терпкий вкус.
По мере того как коровы падали с пандуса, шесть или семь скотобоев обвязывали их ноги железной проволокой и подвешивали на крюки, а противовес на другом конце поднимал туши над полом вниз головой. Работать приходилось быстро и четко: животные все еще были живы, и если они вновь приходили в сознание, то оказывали бешеное сопротивление. Как только коровы попадали на крюк, они начинали движение по бесконечной ленте со скоростью примерно двести туш в час. Скотобои поджидали их у транспортера с ножами на изготовку: точный удар в подъяремную вену — и конец всему. Кровь ручьями стекала в желоб, там она свертывалась и потом тоже шла в дело. Дальнейшее было просто ужасно, и я не мог себе представить, что Мартель решится воспевать такое прошлое. Коров свежевали, пластали, освобождали от внутренностей и, уже без головы и без ног, передавали рубщикам, которые расчленяли туши пополам или делили на куски.
Так же поступали и в 1841 году, когда Эстебан Эчеверриа написал «Скотобойню», первый аргентинский рассказ, в котором жестокость в обращении с животными служила отражением варварской жестокости, с какой в этой стране обходились с людьми. И хотя бойни рядом с рынком теперь нет — она рассыпалась на десятки рефрижераторов, — за пределами городской черты ритуалы жертвоприношения ничуть не изменились. Просто добавилась еще одна танцевальная фигура — стрекало, представляющее собой два медных провода, через которые пропускается электрический разряд. Стрекало крепится на хребет животного и гонит его к жертвенным пандусам. В 1932 году комиссар полиции по имени Леопольдо Лугонес, сын величайшего аргентинского поэта и его тезка, заметил, что этот инструмент прекрасно годится, чтобы пытать человеческие существа, и приказал испытать действие электрического тока на политических заключенных, выбирая самые нежные участки тела, где боль будет совсем нестерпимой: гениталии, десны, анус, соски, уши, носовые полости, — целью его было уничтожить всякое желание или рассудок и превратить подопытных в нелюдей.