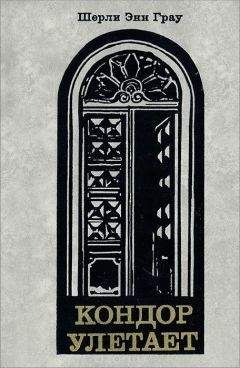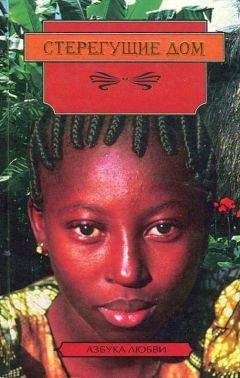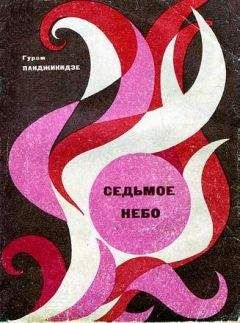Юлий Крелин - Игра в диагноз
— Борька, сейчас, сейчас он им: «Мэрри Уилсон»!
Сейчас… И Джордж говорит, будто каши во рту полно. А мы радуемся своей эрудиции — мы же все это знаем, мы пятый раз его смотрим, уже нашего Джорджа. Еще пока на всю Москву, может, только пять картин и показывают. Как им весело — я гляжу на них… и девчонка с глазами и талией.
— Димка! От мамы записка лежит. В магазин пойдем?
Клочок бумаги — оторванная кромка газеты. «Боренька, сегодня последний день отоваривания карточек. Пойди в магазин наш и отоварь крупу полностью за месяц. Я не успела взять».
Солнца полно, счастья полно, радости полно — детство, и все впереди!
И вот мы с Димкой в магазине. Опять стоим в очереди. На все крупяные талоны мы взяли единственное, что можно, было взять там в тот день, сейчас, сегодня за крупу — «корнфлекс».
Ах этот «корнфлекс»! Четырнадцать громадных коробок «корнфлекса» они с трудом доставили домой. Веревок нет, и нести их трудно. Они держат их обеими руками, четырьмя руками, выглядывая из-за коробок, как из танков.
Это на целый месяц еды. Какая радость, какое счастье, какая прелесть — «корнфлекс»! Эти прозрачные корочки, то ли мучные, то ли кукурузные, то ли черт знает какие, они хрустят во рту, царапают язык, нёбо.
И гениальный Димка:
— У тебя же есть, наверное, что-нибудь добавить в него, размягчить, перемешать, а?
Полезли по всем закоулкам. И нашли оставленную мамой где-то в глубоком подполье банку сгущенного молока для какого-нибудь великого праздника, может, для моего дня рождения, может, в ожидании дня грядущей Победы. Но разве возможно что-нибудь лучше и веселее текущей сейчас минуты!
Ура!
Роскошная банка и написано «Nestle». Что это за слово? «Сезам», «Снипп-снапп-снурре»! Сгущенка! «Корнфлекс»! И все в одной миске. Радость!
— У нас же есть телефон. Звони!
Звонит Борис.
— Тамара…
Как я ее назвал? Почему?.. Конечно, ее зовут Тамара.
— Тамара, приходи, у нас праздник.
Втроем вокруг стола. Рыжий Димка, рыжее пучеглазие, рыжий Борька. И я рыжий!
Все рыжее полыхает в счастье…
Бедная мама скоро придет с работы. Вместо крупы на месяц — двенадцать полных коробок «корнфлекса» и две пустых, пустая банка драгоценной «Netsle».
Прекрасно!
Счастье!
Мама!
Я не «алляйие». «Дер меньш»! Какое «алляйне»?..
Нет, это позже — «дер меньш алляйне». Это позже — после войны уже.
О чем это я? Сейчас война? Сейчас позже — «дер меньш»… Тамара. Конечно, ее зовут Тамара. Но это позже…
Нет. Я больше не хочу «корнфлекса». Да, воды, да, пожалуйста. Спасибо.
17От поильника, уже не от чайника, а, может, от руки, которая держала поильник, пахнуло опять каким-то неведомым, резким, странным запахом. Запах этот он когда-то слышал. Запах навеял мысль о тяжести его медицинской жизни, о трудностях и детективности диагностики, о шуме, который издают некоторые наркозные аппараты, перед глазами возник их АНД, сопровождающий шумом все его операции. Почему, откуда это?
Он сильнее зажмурился, как будто, если остановишь работу, деятельность, функционирование одного органа чувств, уберешь одно из восприятий, автоматически уменьшится и что-нибудь другое. Но, естественно, он, и зажмурившись, видел наркозный аппарат, и запах никак не уменьшался. Да-а, прикрыв глаза, запаха не оборвать. Тем более — запах это или галлюцинация только?
Ему приподняли голову и дали попить. Рука была теплая, нежная, мягкая, как та, что гладила по торсу его, по гипсу, по чувствам его — галлюцинации, по-видимому, распространялись на все органы чувств. Еще только во рту никакого нового вкуса не объявилось. Он с еще большей силой сжимал веки, откидывал голову назад, вжимал ее в подушку…
«В лесу прифронтовом нихт герн алляйне…»
— Что, что?
Голос он услышал неожиданный, и интерес в нем истинный и удивление. Ему стало тепло, приятно, он вдохнул поглубже… Не получилось. Еще раз — не получилось. Трудно дышать.
— Спокойно, Боренька, спокойно. Успокойся, дорогой коллега… Ты что, не знаешь, как люди болеют?.. Вечно вы, мужчины, не можете пустячной боли перенести. Как бы вы жили на нашем месте.
Голос говорил, говорил, говорил…
Борис Дмитриевич стал прислушиваться, мелодия начала затухать, затихать, замедляться.
— Говори, говори.
— Что ты, Борис?
— Это твои духи так резко пахнут?
— Ничего не поделаешь. Они не отмоются. Выдохнуться должны.
— Душно.
— Конечно, когда две лампы жарят в тебя. Потерпи немного. Вон ты красный какой.
Борис Дмитриевич озадаченно слушал, озабоченно пытался понять причину неожиданной радости, пробивающейся сквозь духоту, запахи, боли, тошноту, — все было… и радость какая-то… «нихт герн алляйне…».
Да, это была Тамара. Он открыл глаза.
— Как у тебя мило таращатся глаза.
— Уж извини — это недавнее приобретение.
Борис Дмитриевич подумал, что напрасно он ей говорит про внешность, пока не поставил диагноза…
— А щитовидка у тебя в норме? — не смог он удержаться. Старый, больной Акела, не отвечающий за свои поступки, нарушающий закон джунглей. Не надо было спрашивать. Акела опять промахнулся. Стая долго этого терпеть не будет…
— Нет, нет, это не то. Медициной займешься потом.
— Красиво так, когда так, а когда и так… Душно. Никак не вздохнуть.
— Тебе просто жарко.
— Зачем ты здесь? Ты же тоже больная, не знаю только чем.
— Во всяком случае, не заразная.
— Это не по силам тебе — ухаживать.
— Мне? Я же реаниматор. Я все это умею лучше их всех. Я профессионально ухаживаю, мой милый. Я еще тебе это по-настоящему покажу после больницы. Впрочем, может, сделают, чтобы ты показал, на что способен!
— Дай мне зеркало.
— Зачем?
— Не знаю. Дай.
— А где оно?
— У меня нет.
— Тогда подожди.
Он услышал ее удаляющиеся шаги.
Вновь стали потихоньку кружиться осенние листья, «товарищи мои» слушать вальсы. Человек не хочет ночью оставаться один.
Он закрыл глаза, вновь отуманенный температурной мутью.
Но вот опять стали наплывать родные шаги, потом знакомый уже запах, потом еще чьи-то шаги. Он прислушался, не открывая глаз.
— Саша, ты посмотри, как он дышит. Черный совсем. Лицо чугунное. Плохо дышит — гипоксия. Поставь капельницу.
Да, это говорит Тамара, он узнал. «Отчего же она, они не входят? Она говорит Саше — она его знает, наверное, он и положил ее сюда. Может, она училась с ним? Она моложе».
— Дайте зеркало.
Они вошли в палату.
— Зачем тебе, Борис?
— Я не нашла, Боря.
— Почему ты здесь? Сколько времени? Что-то со мной не так?
— Все так. Я еще не ушел, еще рано.
— Не ночь?
— Что ты, Боря!
— Тогда все нормально. А то что ж хорошего, если зав ночью в отделении? Всякий после операции пугается тогда. Конечно, надо пускать больше их. А я все ездил, ездил…
— Эйфория. Температура у него.
— Я вижу.
— У меня эйфория? У меня всегда эйфория, я живу, как под балдой, как под банкой, — Борис выдохнул три коротких смешка. Выдохнул — это Борис так подумал. Он вспомнил курс наук: смех — серия судорожных выдохов; плач — вдохов.
— Борис, я тебя сейчас отправлю в реанимацию. Ладно?
— Зачем? Все же в порядке. Я выдыхаю.
— Что, что? У тебя температура, дышишь плохо. Доктор же! Сам знаешь, как с докторами связываться. Мне спокойней будет, если увезу тебя туда.
— Тамара, а что у тебя болит? Голова болит?
— Потом, Борис, мы будем выяснять ее жалобы. Я тебя сейчас переведу. А?
— Не хочу. Там меня, как бревно, будут ворочать, не спрашивая, то иголками тыкать, то желудок промывать. Я хочу согласие давать иль не давать, как у Чехова. А там нельзя.
— При чем тут Чехов? Что у Чехова?
— У него сказано, что «он лицо одушевленное — имя существительное».
— Ну, хорошо, у тебя высокая температура — надо же лечить, следить за тобой, а сестры отделения не управятся — у них много больных.
— Я лицо существительное и не хочу быть пассивным страдательным залогом. Исчезает в реанимации достоинство, одушевленность. Появится серия судорожных вдохов.
— Какие вдохи? Несерьезно это, Боря.
— Саша, переведи его в отдельную палату. Я посижу, послежу за ним.
— А ты сумеешь?
— Сомневаешься в моих профессиональных качествах?
— А чувствуешь-то себя как?
— Нормально. Давно мне уже скучно, а здесь естественное отвлечение от болезни. Да и экземпляр симпатичный.
— И голова не будет болеть, — пробормотал Борис и снова уснул, загрузился.
Пока он спал, кровать перевезли в отдельную палату.
— Экземпляр-то он симпатичный, да когда ты успела с ним снюхаться?
— Терминология у тебя, Сашок! Это для тебя сутки проскочили быстро, а для нас здесь — целая эпоха. Вот в этой палате хорошо. Товарищей, коллег надо сразу класть в отдельную палату.