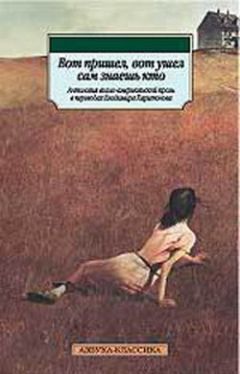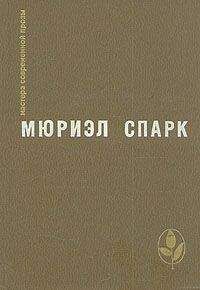Xавьер Мариас - Белое сердце
Эти глаза льстили тому, на что смотрели. Они были очень светлые, но без капли голубизны, карие глаза, светлые настолько, что при ярком освещении их цвет напоминал цвет белого вина, а в сумерках — цвет уксуса.
Это были прозрачные глаза, глаза хищника, но не кошки (хотя именно у кошек часто бывают глаза того же цвета). Но его взгляд не был неподвижным или нерешительным, как у животных, — его глаза были оживленными и сверкающими, их обрамляли длинные темные ресницы, несколько смягчавшие остроту взгляда, одновременно почтительного и пристального, не упускавшего ничего, что происходило вокруг. Это были глаза знатока живописи, которому достаточно взглянуть на картину один раз, чтобы запомнить все детали и тут же мысленно воспроизвести композицию (если, конечно, он умеет рисовать). У него был очень выразительный рот (единственное, что я от него унаследовал). Губы были мясистые и слишком четко очерченные, — казалось, эти губы предназначались совсем для другого лица, а ему достались случайно, и потому не очень подходили к другим чертам. Это был рот женщины на лице мужчины, как не раз говорили и о моих губах, женственных и ярких, наследстве Бог знает какой прабабушки, тщеславной сеньоры, не пожелавшей, чтобы эти губы исчезли с лица земли вместе с ней, и передавшей их нам, невзирая на наш пол. А еще у него были удивительные брови: густые и вечно приподнятые (то одна, то другая, то обе вместе). Вероятно, он скопировал эту манеру в годы своей юности у плохих актеров начала тридцатых, и впоследствии она сохранилась как маленькая забавная странность, которую не смогло стереть время, стирающее нас самих и наши дела. Отец приподнимал брови, которые сначала были соломенного цвета, а потом поседели, по любому поводу и даже без повода, как будто этот жест был обязательным дополнением к его пристальному взгляду.
Именно так он всегда смотрел на меня, еще в те времена, когда я был малышом, и мне приходилось (если он не сидел и не лежал и сам не склонялся ко мне) задирать голову, разговаривая с ним. Сейчас мы одного роста, но он все еще (по крайней мере, так было до недавнего времени) смотрит на меня с некоторой иронией из-под густых бровей, похожих на раскрытые зонтики, и его сверкающие зрачки — черные пятнышки на золотистых радужных оболочках — темнеют, как два центра одной мишени. Так он смотрел на меня в день нашей свадьбы с Луисой, молодой женой того, кто уже не был ребенком, но кого он знал ребенком и с кем слишком долго обращался как с ребенком, чтобы воспринимать его по-другому, в то время как с Луисой он познакомился, когда она уже была взрослой, более того — невестой. Помню, как во время церемонии он на минуту увел меня от гостей (в маленькую комнатку рядом с залом, арендованным нами в прекрасном старинном казино на улице Алькала, 15) сразу после того, как наши свидетели расписались в книге. Он остановил меня, положив мне на плечо руку (эта рука на плече!), когда все покидали комнату, чтобы вернуться в зал, и подождал, пока мы останемся совсем одни. Тогда он закрыл дверь, сел в кресло, а я привалился к столу, скрестив руки на груди. По случаю свадьбы мы оба были празднично одеты (он даже наряднее, чем я), хотя это была гражданская свадьба — просто регистрация в муниципалитете. Ране закурил длинную тонкую сигару, из тех, что обычно курил на публике, не затягиваясь. Потом высоко поднял брови, весело улыбнулся и испытующе посмотрел мне в глаза (на этот раз ему пришлось посмотреть снизу вверх). Потом он сказал: «Ну, вот, теперь ты женат. И что дальше?» Он был первым, кто задал этот вопрос (точнее, первым, кто задал его вслух), который мучил меня с самого утра, с того момента, когда началась церемония и даже еще раньше, с предыдущего вечера. Той ночью я спал беспокойно и чутко, думаю, что я все-таки спал, но мне казалось, что я бодрствую, мне снилось, что я не сплю, и на самом деле я много раз просыпался. Где-то в пять утра я подумал, не зажечь ли свет — жалюзи не были опущены, и в мою комнату уже проникали первые лучи (была весна и светало рано), и я угадывал очертания знакомых предметов. «Больше я не буду спать один, разве что иногда, или когда буду в разъездах», — думал я, все еще не зная, зажечь лампу или понаблюдать, как рассвет постепенно будет освещать дома и деревья. «С завтрашнего дня и в течение многих лет я не буду страдать от желания увидеть Луису, потому что первое, что я буду видеть, открывая глаза, будет она; я не буду пытаться угадать, какое у нее будет на этот раз лицо и как она оденется, потому что ее лицо я буду видеть с раннего утра, и, вероятно, буду наблюдать, как она одевается. А может быть, я даже буду советовать ей, как одеться. Начиная с завтрашнего дня не будет больше маленьких тайн, которые почти год так волновали меня, и благодаря которым я жил полной жизнью, возможной только когда пребываешь в состоянии неясного ожидания и неведения. Скоро я буду знать слишком много, узнаю о Луисе больше того, что я хотел бы знать, узнаю то, что мне интересно, и то, что мне неинтересно, уже не нужно будет выбирать — ежедневно принимать решения: позвонить ли? назначить ли свидание? Встретиться ли, отыскивая друг друга в толпе глазами, у входа в кинотеатр или в шумном ресторане? Или, может быть, провести вечер у одного из нас дома? Я буду видеть не результат, а процесс, который мне, возможно, совсем не будет интересен. Я не знаю, захочу ли я смотреть, как она надевает чулки и пристегивает их к поясу, выяснить, сколько времени она проводит в ванной по утрам, накладывает ли крем на ночь и какое у нее настроение, когда, проснувшись, она видит рядом меня. Мне почему-то кажется, что мне не очень понравится, если по вечерам она будет ждать меня в постели уже в ночной рубашке или в пижаме. Думаю, я предпочел бы сам снять с нее ту одежду, что была на ней днем, разрушить тот образ, который видели все в течение дня, а не тот, который она приняла только что, на моих глазах, наедине со мной в нашей спальне, возможно, даже стоя спиной ко мне. Я, скорее всего, предпочел бы избежать этой промежуточной стадии, и, наверное, не хотел бы слишком хорошо узнать, какие недостатки у нее уже есть, и быть вынужденным наблюдать, как с течением месяцев и лет появляются новые, о которых и подозревать не будут наши (теперь уже наши) знакомые. Я уверен, что не хочу говорить о нас «мы»: мы ходили туда-то, мы купили или мы хотим купить пианино, у нас будет ребенок, наша кошка. Вероятно, у нас будут дети, и я не знаю, хочу я этого или нет, хотя, наверное, я бы не возражал. Одно я знаю точно: мне очень хотелось бы увидеть, как она спит, какое лицо бывает у нее — нежное или жесткое, озабоченное или безмятежное, детское или старческое, — когда она отдыхает, когда не думает ни о чем или сама не знает, о чем думает, когда ей не надо принимать решений, когда не нужно подчиняться условностям, как подчиняемся все мы в присутствии свидетелей, даже если в роли свидетеля выступает человек очень близкий — отец, или жена, или муж. Я уже несколько раз видел ее спящей, но этого недостаточно, чтобы научиться узнавать ее, когда она спит, — ведь спящий человек иногда становится непохожим сам на себя. Вот почему завтра я женюсь — ход событий неотвратимо привел меня к этому. Я женюсь, потому что это логично, и потому, что я еще никогда этого не делал — самые важные поступки совершаются потому, что того требует логика, и потому, что хочется попробовать, или — что то же самое — потому, что они неотвратимы.
Случайный шаг может круто изменить нашу жизнь, и перед лицом этих перемен мы спрашиваем себя: «А что, если бы я не зашел тогда в этот бар? А если бы я не пошел тогда на вечеринку? А если бы я не поднял в тот вторник телефонную трубку?» Мы задаем себе эти наивные вопросы и на мгновение (всего только на мгновение) верим, что в противном случае мы не познакомились бы с Луисой и сейчас не стояли бы на пороге неотвратимого и логичного события, не понимая (именно потому, что оно логично и неотвратимо), радует оно нас или пугает, хотим ли мы, чтобы свершилось наконец то, о чем мы еще вчера мечтали. Но мы всегда знакомимся с Луисой. Наивно спрашивать, почему это так. Рождение зависит от случайного движения. Фраза, произнесенная незнакомцем на другом конце света, так или иначе истолкованный жест, рука, положенная на плечо, сказанные шепотом слова, которые могли бы не быть сказаны. Каждый шаг и каждое слово любого человека в любых обстоятельствах — колеблется он или убежден, говорит искренне или лжет — могут самым невероятным образом отразиться на тех, кого мы не знаем и не узнаем никогда, на тех, кто еще не родился и еще не знает, что в будущем ему суждено заставить нас страдать, становятся порой в буквальном смысле вопросом жизни и смерти — так часто жизнь и смерть непостижимым образом зависят от вещей незначительных, о которых никто и не вспомнит: от того, что мы все-таки решили выпить пива, хотя сначала и сомневались, хватит ли нам на это времени; от того, что мы были любезны с кем-то, с кем нас только что познакомили, не подозревая, что за минуту до этого он накричал на кого-то или кого-то обидел; от того, что, возвращаясь домой с обеда в родительском доме, мы задержались, чтобы купить торт, но так его и не купили; от того, что готовы бесконечно слушать тот единственный голос, что бы он ни говорил, от нашего случайного телефонного звонка; от того, что мы хотели остаться дома и не остались. Выходить из дома, разговаривать с кем-то, что-то делать, просто двигаться, смотреть и слушать — значит подвергать себя постоянному риску. Даже если мы запремся дома, перестанем двигаться и говорить, мы все равно не убережемся, все равно ничто не спасет нас от последствий, логичных, неотвратимых, неизбежных, хотя еще почти год (или два, или четыре, или десять, или сто лет) назад, да даже еще вчера, мы о них и не помышляли. Я думаю о том, что завтра мы с Луисой поженимся, но сейчас пять утра, и значит, женюсь я уже сегодня. Для нас ночь — это продолжение предыдущего дня, но для часов это не так. Часы на моем ночном столике показывают пять с четвертью, будильник — пять часов четырнадцать минут, и обоим дела нет до того, что я ощущаю себя еще во вчерашнем дне, а не в сегодняшнем. Через семь часов. Может быть, Луиса тоже сейчас не спит, лежит одна в своей комнате, не зажитая света, в пять с четвертью утра (позвонить ей,) одна, как и я (но нет, я ее напугаю), больше она не будет спать одна, разве что в исключительных случаях и когда мы будем в поездках. Мы оба слишком много ездим, с этим надо кончать (она может подумать, что я звоню ей среди ночи, чтобы все отменить, чтобы отказаться жениться, пойти наперекор логике и попытаться избежать неизбежного). Ни в ком никогда нельзя быть уверенным, никому нельзя доверять. Может быть, она тоже сейчас спрашивает себя: «И что дальше? Что дальше?» Или размышляет о том, что не уверена, хочет ли видеть каждый день, как я бреюсь — бритва жужжит, а среди щетины попадаются седые волоски — я выгляжу старше, если не бреюсь, и поэтому я шумно бреюсь каждый день и буду продолжать делать это, просыпаясь по утрам. Уже поздно, я все никак не могу уснуть, а завтра мне нужно хорошо выглядеть. Через семь часов мне предстоит произнести в присутствии свидетелей, в присутствии собственного отца (и в присутствии родителей Луисы, конечно), что хочу быть с Луисой, что таково мое решение, я скажу это так, как того требует закон, мои слова будут записаны, и их уже нельзя будет изменить.