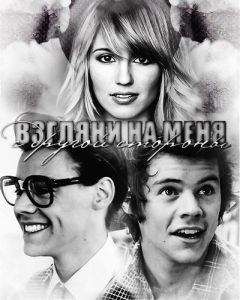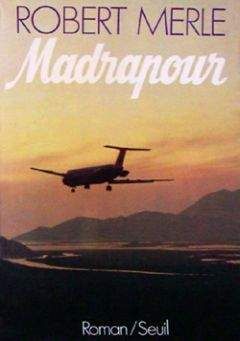Борис Черных - Есаулов сад
Но был он отныне и навсегда молчалив. По долгим российским дорогам он понес тяжкую память о ней. Постепенно образ другой женщины – Родины – затмил лик отроческой любви, и эта любовь не была безответной, он оплатил ее жизнью.
Но когда я, не понимавший его одиночества, незадолго до смерти, – а он умер, вернувшись с политзоны, почти сразу, всмотрелся в желтое, отцветшее лицо, я вдруг открыл, как это жутко и весело, страшно получить от приятеля письмо, с утренней неумелостью вскрыть холодный конверт и обжечься:
«Люся выходит замуж»…
1961. 1988.
Тот орешник в долине
Вo все время игры он сидел на бревнах, зябко поводил плечами и жадно смотрел на мяч, который бежал к бревнам. Но он ни разу не встал и не пнул своим тяжелым сапогом мяч, когда тот бился у его ног… Когда мальчишки кончали играть, он слабым голосом звал их и говорил точно и метко об ошибках.
– Сам, небось, складно говоришь, а сам, небось, не хочешь сыграть с нами. А ты бы по воротам ударил разок. Ударь, а…
Не успели договорить мальчишки, как он приложил огромные руки к груди, жалко согнулась его длинная спина, глаза начали стеклянеть, и послышалось хриплое покашливание, словно хозяин этого покашливания настраивал голос на нужную ноту. Через минуту он справился с собой и стройным голосом ответил:
– Ударить-то, не могу, ребята. Раньше хорошо бил. Потому не могу, что через два месяца помру я, ребятки. Вот ведь дела-то какие. А жить бы мне еще долго, лет на десять старше я вас, всегонавсего. А тот орешник в долине и ее забыть не могу…
Фронтовик работал завбиблиотекой – деревянное старое здание ее граничило по двору со школой, в которой учились мальчишки. Они здорово привязались к нему, может быть оттого, что им жалко было молодого обреченного человека. Он приглашал их в библиотеку, где они серьезно говорили о книгах и о футболе.
Но когда октябрь дотла сжег листву тополей, он не смотрел их игру. Они пошли в библиотеку – на двери ее висел замок. Кое-как разыскали его домишко. Он лежал в постели, и на стук не отозвался.
Вскоре они все-таки собрались и играли, но серьезно, без шума и гама. У каждого было такое ощущение, словно он сидел вон там в глубине двора на бревнах и искристыми глазами смотрел на них. Однажды, после игры, они даже пошли к этим бревнам услышать, что он скажет, но его не было. На том же самом месте сидел крохотный мальчишка-первачек, в галстучке – и смотрел на них. И они улыбнулись ему, а он улыбнулся им.
Тот орешник в долине…
1958
Иркутск
У Порога
Серая хмарь дождливой июльской полночи. Порог спит, дремлет. Изредка провоет собака. Качаются печальницы-сосны, они уже не отряхивают с себя щедрых капель дождя и покорно подставляют ветру разлапистые хрупкие ветви. Полегли овсы в полях – им бы сейчас сухого солнца…
А за селом, продираясь сквозь камни, шумит Умара, и старики, те что из старожилов, чутко ловят быстрые вздохи волн – боятся наводнения.
Глобин тоже не спит, он в третий раз поднимается за ночь – ходит смотреть воду. За три часа вода поднялась на полметра. Если так будет продолжаться и дальше, то к двенадцати дня придется перетаскивать домашний скарб…
Наконец, в углы комнаты начинает заползать ненастный рассвет. Глобин будит сына. Тот мычит, потные щеки не разомкнуть – крепок молодой сон, но Глобин привычным движением, большим и указательным пальцами, зажимает широкий нос сына. Тому не хватает воздуха, он вскакивает на ноги, укоризненно глядит на отца, на стены, на синее окно.
– Ты что, батя? – говорит этот взгляд.
– Придется, однако, перебираться, вода как в двадцать третьем прет…
– Проверим, – говорит сын, берет ватную шапку, накидывает на плечи кусок брезента, выскакивает прямо в трусах под сильные струи дождя.
Через минуту он довольный и ясный стоит у кровати, растирает гусиную кожу полотенцем и отдувается. Теперь очередь отца спрашивать, и он спрашивает:
– Ты чего это, а?
– Да вот, дождь, – звонко отвечает сын.
– Так что из того?
– Чистый, дождь-то, – как-то по-детски говорит Глобину его взрослый сын.
– Дурак ты. Как тебя, дурака-то, на фронт отправлять, молитву сотворишь, не поможет.
– Дурак, – спокойно и улыбчиво соглашается сын.
Отец не в духе на весь день, но это не мешает им обоим спустя час сидеть рядом в колхозном клубе на холодной деревянной скамье и слушать хриплый голос репродуктора.
– Всё оставляют, – вздыхает Глобин-старший.
– И я вот завтра оставлю…, – печально и ломко вторит ему Глобин-младший. Вздох у него такой искренний, что отец не выдерживает напора обуревающих его мыслей:
– От Петьки-подлеца уже месяц ни слуху, ни духу…
Эти слова слышат соседи и начинают традиционный утренник:
– И у меня Василий, на что аккуратный парень… (был, – просится сказать, но сосед спохватывается)… как в рот воды набрал.
– А Венька всё с мамочкой нежился, и тоже, поди ты. Да и отец-то его не чище…
– Не до того им, деда Архип, – смело вставляет Андрей, пунцово краснеет от своей смелости, но полумрак клуба скрывает, скрадывает его юношескую краску. Он знает, что они примутся его отчитывать, отец даже скажет недоброе: «Прокляну, коли в молчанку играть станешь, и друзей твоих прокляну, если недоброе отцу не сообщат».
Действительно, они напустились на него. Он хотел еще подлить масла в огонь: «Добро дождь, так вы языки чешите, а то бы косой махать. А они там и в дождь, и всяко-яко», но ему вдруг жалко стало и отца, и этих покорных настроению стариков, и брата жалко, который «ни слуху, ни духу», и он промолчал.
На улице совсем день, когда старики медленной толпой, и каждый на раскорячку по-стариковски, покидают клуб. Кто-то роняет заветное, давно и всем известное, каждодневное:
– Только зажили…
– Ты, Николай Силыч, вечерком забеги ко мне. И ты, Костя, – обращается Глобин к тщедушному старику, у которого посередке впалой груди тепло и неправдоподобно поблескивает Георгиевский крест. – И ты, Ваня. Обкручу и прокачу младшего, – бодрится Глобин.
И тут же оправдывается: «Одному-то нельзя мне, с тоски помру я, ребята»…
Ребята качают седыми головами, их лица в застойных морщинах выражают участие к осиротевшему другу: у других старухи, внуки, внучки, а Глобин один-одинешенек.
Впереди у Андрея целый день. Андрею надо б пойти к Светке, но он боится, как Светкина мать еще с крыльца закричит:
– А, зятек мой идет, – и в глубину дома, – Светка, иди женишка встречай…
Потому Андрей садится на низкий, с войлочным сидением табурет и начинает починять отцу сапоги.
Он ловко обрезает, закругляет резиновый каблук и четкими ударами загоняет в него легкие березовые гвоздики. А сам все думает. О завтрашнем дне он не думает – все понятно и ясно у него на завтра. Но вечер, его незнакомые волнующие подробности…
И зачем это ему только девятнадцать лет, а не двадцать пять. Зачем Светке семнадцать, а не двадцать?…
– Молодые мы, неопытные, – чужими словами думает он.
Но не его вина, что он не умеет думать другое, главное: «А зачем эта война? Откуда она?»
В подень дверь сильно ударила о стенку кладовой – в хату влетела Нина Власьевна, новый колхозный председатель. Засмеялась, глядя на Андрея: «К свадьбе, что ль, сапоги-то?»
И посерьезнела:
– Иван Дмитриевич, скотный двор течет, коровенки сбились в кучу в угол, а все одно и там течет. Жалко на них смотреть…
Глобин ждет, что еще председательша скажет, та действительно говорит еще:
– А ты знаешь, Ваня, вчера под ночь тучи от Ерофеева холма к востоку отогнало. И оттуда солнышко, такое чистое, а тут как вдарит над головой ливень. Я так и обмерла. Слепой, дождь-то… К чему бы это, а?… Да ты не молчи, Дмитрич, – кричит Нина Власьевна.
Ах ты Нина Власьевна, новый колхозный председатель!…
Глобин бурчит, процеживая слова сквозь густую щетку усов: «Верно, баба, дожди-то – слепые, но люди почто слепнут тоже…» И нервно прыгает у него правая бровь, подрагивают серые волосы на небритых щеках.
Снова хлопает дверь. Андрей вспоминает, как месяц назад отец предлагал починить крышу скотника, но Власьевна проявила упорную волю и приказала чинить потолки да крыши стареющих домов.
Тоже надо… А верно батя сказал, – думает Андрей, – люди слепнут.
У Андрея впервые сжимается сердце: «Что же с селом-то будет, без мужиков?» Но эту мысль отбрасывает другая, тоже тревожная: «Где же Светка, уже время сбираться?» Он бросил в угол сапоги, вышел на улицу. Падает частый, неприятный дождик. От такой погодки не станешь веселым, – думает Андрей.
«Какой я непостоянный, – вспоминает он себя за день: то – веселый, то места не найду, дурной какой-то»…
К вечеру он сидит принаряженный, ловит Светланкины взгляды, но невеста ни жива, ни мертва, коса слетела с заколки – она и того не видит.
Старики выпили, ожили, хвастаются сыновьями. Сочиняют письма, которые якобы получают от них.